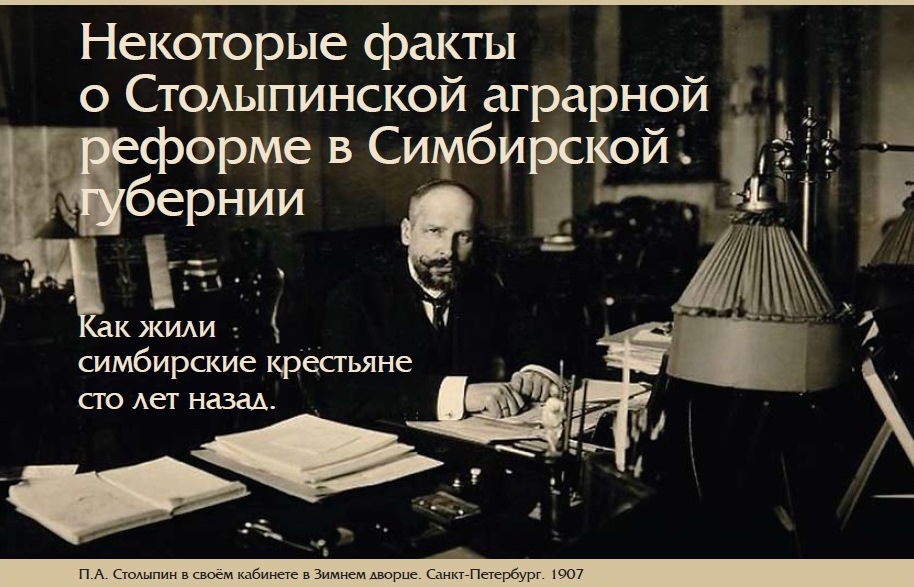
Некоторые факты о Столыпинской аграрной реформе в Симбирской губернии
«…Цель у правительства вполне определённа: правительство желает поднять крестьянское землевладение, оно желает видеть крестьянина богатым, достаточным, так как где достаток, там, конечно, и просвещение, там и настоящая свобода… Надо дать ему возможность укрепить за собой плоды трудов своих и представить их в неотъемлемую собственность»
Из речи П.А. Столыпина в Госдуме.
10 мая 1907 года
Понятие Столыпинская аграрная реформа, вмещающее в себя обозначение комплекса преобразований в сельском хозяйстве, проводившихся правительством России под руководством премьер-министра П.А. Столыпина в начале XX века, известно многим. Кроме аграрной реформы, с именем выдающегося государственного деятеля и великого реформатора у большинства людей неразрывно связаны такие выражения, как «столыпинский галстук» и «столыпинский вагон», характеризующие его негативно. Дело в том, что десятилетиями из него пытались сделать главного палача первой русской революции и виновника всех бед русского крестьянства. Однако с течением времени всё чаще стали появляться более объективные статьи об этой выдающейся личности. Историки и экономисты вспомнили, что цели у него были благородные, идеи правильные и современные, однако на практике всё оказалось значительно сложнее.
Столыпинская аграрная реформа, не коснувшаяся только землевладений казаков и башкир, проводилась во всех 47 губерниях европейской части России, в том числе и в Симбирской губернии. И одной из её основных задач было как можно скорее прекратить аграрные волнения, которые в начале XX века захлестнули страну и стали негативно отражаться на экономике Российской империи. Насколько всё было непросто, трагично и необратимо для российского крестьянина, попробуем разобраться с помощью архивных документов и симбирской прессы столетней давности.
Больше ста лет назад в Симбирской губернии бушевали стихийные крестьянские волнения, направленные против помещиков. С помощью карательных отрядов только в Симбирском уезде помещики «утихомиривали» восстания в Шумовке, Языкове, Малом Урене, Арском и других поселениях. Но исправить положение силой не удавалось. Слишком тяжёлым было положение в деревне. После реформы 1861 года симбирские крестьяне, совсем не имевшие земли, а также малоземельные (владельцы участков до пяти десятин) составляли почти половину крестьянских хозяйств. В начале XX века в крае по официальным данным на крестьянскую семью приходилось в среднем 7 десятин земли, а на одно помещичье имение в сто раз больше. Кроме того, по причине плохого качества земли, примитивной техники, отсталых способов возделывания земли, климатических особенностей региона в Симбирской губернии часто выпадали неурожайные годы.
Даже помещики говорили об ухудшении жизни крестьян: «Питание нашего крестьянина ухудшается, а никак не улучшается; – единственно, чем кормятся – это ржаным хлебом, да и то во многих местах России и этот хлеб идёт в пищу в смеси с древесной корой, мякиной и суррогатами. Продовольствие нашего русского населения, обращается всё более и более в хроническое недоедание...» (Труды Симбирского общества сельского хозяйства, 1901.)
Перебивались сельчане с кваса на воду, пухли от голода и умирали от недоедания целыми семьями. Активные массовые выступления крестьян продолжались до середины 1907 года. Свою работу делали и большевистские агитаторы. Симбирские крестьяне добивались изгнания помещиков из их имений и раздела их земель. «Земля – Божий дар и должна принадлежать тем, кто на ней трудится, а не господам», – писал крестьянин из Сызранского уезда в Вольно-экономическое общество (Аграрное движение в России 1905–1906 годов). Всего в эти годы по стране была сожжена шестая часть помещичьих имений. В Сызранском уезде осенью 1905 года крестьяне жгли помещичьи усадьбы в Аксульской и Паньшинской волостях, увозили помещичье сено, рубили леса бывших хозяев.
«В мае крестьяне деревни Малой Кузьминки, Ардатовского; уезда, имения княгини Куракиной, собрав сход, заявили управляющему имением требование об увеличении количества арендуемой ими земли, угрожая в случае неисполнения их желания захватом земли самовольно, так как таковой у них крайне недостаточно. Не получив удовлетворения их требования, крестьяне деревни Малой Кузьминки не ограничились угрозами и произвели массовые беспорядки, поджоги, насилия над служащими при экономии, с захватом пастбищ для скота» (Из докладной записки департамента полиции председателю совета министров С.Ю. Витте. М.-Л., 1925.)
Некоторые богатые помещики, опасаясь разгрома имений, вызывали казаков для собственной охраны и содержали их в течение длительного времени. Например, граф Орлов-Давыдов содержал на свои средства отряд казаков с 1905-го до конца 1907 года. В 1907 году, согласно решениям Симбирского военно-окружного суда, казнили 7 человек, в 1908 году – 8. В 1907 году за антиправительственную деятельность был арестован 341 человек. (ГАУО, ф. 76, оп. 7, д. 313.) Дальше эти цифры пошли на спад.
Но тем не менее в 1908 году за аграрные беспорядки, учинённые в Симбирской губернии, в тюрьмах содержалось 402 арестанта.
«Комиссии по землерасстройству»
Реформы, начатые правительством в сложный период депрессии экономики, должны были успокоить деревню. Смысл аграрной реформы Столыпина состоял в отказе от крестьянской поземельной общины. Когда-то опора государственного порядка, на рубеже XIX–XX веков она показала свою неблагонадёжность. Главный управляющий землеустройством и земледелием А.В. Кривошеин надеялся повысить производительность крестьянского хозяйства, сделав крестьянина собственником земли. Согласно Указу от 9 ноября 1906 года у крестьян появилось «право свободного выхода из общины, с укреплением в собственность домохозяев, переходящих к личному владению участков их мирского надела».
Предоставленный крестьянину участок становился отрубом. Если на нём были жилые и хозяйственные постройки, то возникал хутор. С целью ликвидации крестьянской общины в рамках столыпинской аграрной реформы были созданы землеустроительные комиссии, которые вскоре были прозваны «комиссиями по землерасстройству» и не вызывали у крестьян доверия.
Об отношении симбирских крестьян к столыпинской реформе свидетельствуют ответы крестьян на вопросы анкеты Вольно-экономического общества. Крестьянин Сызранского уезда:
«К правительственным мероприятиям, крестьянскому банку, землеустроительным комиссиям среди крестьян царит полное недоверие». (Аграрное движение в России 1905–1906 гг.); «В Паньшинской волости, Сызранского уезда, крестьяне говорят, что в банке и в землеустроительных комиссиях один обман, что «помещики, желают вытянуть из крестьян последние соки».
Вольно-экономическое общество пыталось выяснить, какая форма землевладения выгоднее для крестьян. На поставленный Обществом вопрос: где лучше крестьянам, крестьянин Карсунского уезда Симбирской губернии ответил: «Как ни думай, а с обеих сторон плохо и в общине, и на отрубе». Однако часть жителей деревни всё же использовала предложенное им право выхода из общины и закрепила надельную землю в частную собственность. Крестьяне, остающиеся в общине, пытались препятствовать захвату лучших общинных земель.
О случаях захвата богатеями лучших общинных земель появляются сообщения в печати: «В селе Камышенке около 15 семей пожелали выселиться на хутора и подали прошение в землеустроительную комиссию, прося вырезать им землю в местности, называемой «Ключи», принадлежащей обществу села Камышенки и считающейся у них лучшей землёй.
Общинники сами имели право назначить участок и просить землеустроительную комиссию вырезать его для хутора, но кто-то внушил крестьянам, что вызов землемера будет дорого стоить, и прошение хуторян было удовлетворено, а общество лишилось лучшей земли. В общем, крестьяне очень недоброжелательно смотрят на выселяющихся на хутора своих общинников» (Из симбирской газеты «Народные вести»)
Бедняки, выходя из общины, «укрепляли» надельную землю в частную собственность исключительно для её последующей продажи и превращались в пролетариев. Вот ответы на анкету симбирского земства с вопросом о причинах продажи надельной земли.
Кузнецов (Карсунский уезд, Каргинская волость): «Некоторых заставляет нужда: продают землю, надеясь произвести расчёт с нуждой, но, конечно, ошибаются: нужда ещё крепче садится на шею».
Тарасов (Карсунский уезд, Урено-Карлинская волость): «Продают землю ввиду того, что прокормить свою семью на такой безделице невозможно».
Ломка общины, вопреки стараниям реформаторов, шла медленно. По данным подворной переписи 1910–1911 годов, у крестьян Симбирской губернии было «укреплено» в частную собственность только 14,3% общего числа земельных наделов губернии. А между тем столыпинская реформа проводилась к тому времени уже пять лет, и показатели Симбирской губернии были выше, чем в других губерниях Поволжья.
Переселение
Многие крестьяне продавали закреплённые в частную собственность наделы, надеясь на вырученные средства воспользоваться правительственной программой и переселиться на свободные земли на востоке Российской империи. Предполагалось, что аграрная реформа усилит поток переселения в Сибирь, на Урал, в северные районы Казахстана крепких середняков, на которых, собственно, и делало ставку правительство, так как для этого у них имелись средства. Царская казна частично или полностью оплачивала переселенцам проезд и выдавала ссуду на первоначальное обзаведение.
На восток с перенаселённых центральных районов России крестьяне ехали по Транссибирской железной дороге в специально разработанных пассажирских «столыпинских вагонах», рассчитанных на 40 человек каждый. Вагоны были разделены перегородками, и земледельцы могли в них перевозить рабочий инвентарь и скот. Казённые земли выделялись переселенцам бесплатно. По мере возможности на местах им предоставляли сельскохозяйственные орудия, рабочий скот и семена. По сути, это была масштабная земледельческая колонизация.
Антонов (Буинский уезд, Тархановская волость): «Многие крестьяне нашего села и окрестных переселяются за Урал, почему продают укреплённую землю навечно».
Можаев (Ардатовский уезд, Козловская волость): «Продают те лица, которые намерены переселиться в Сибирь».
По статистическим данным, за годы реформы на восток России переселилось по разным сведениями приблизительно 3,3 млн человек. Однако среди них были и бедные, и малоземельные, которые не смогли прижиться на новом месте по разным причинам, том числе и из-за нехватки средств. Из общего числа переселенцев около 0,8 млн вернулись обратно на родину полностью разорёнными.
Соотношение уроженцев Симбирской губернии, осевших за Уралом и вернувшихся в родные края, приблизительно такое же. «За время с 1 по 21 октября в Сибирь через Челябинск прошло 1100 семейств переселенцев в составе 6102 душ обоего пола и, кроме того, 4116 ходоков, – писала газета «Симбирские губернские ведомости» в 1906 году. – За то же время проследовало обратно из Сибири 113 семейств в составе 958 душ обоего пола и 2469 ходоков». То есть можно сделать вывод, что большие семьи, в составе которых было больше восьми человек, не смогли приспособиться к новым местам, как и около 60 процентов ходоков. Все они возвращались обратно несолоно хлебавши. Больше всего переселенцев проследовало на новые восточные земли из Ардатовского, Буинского, Алатырского и Сенгилеевского уездов.
Неудачники-«возвращенцы», продав свои наделы, нищенствовали. Но нищими их не считали. Согласно земской статистике они пополняли собой число «промышленников», то есть лиц, занимающихся промыслами.
Предприимчивые, крепко стоявшие на ногах крестьяне, покупали у бедноты её участки и распоряжались покупкой по-разному.
Бурлаков (Симбирский уезд, Тетюшинская волость): «Крестьянин Малого Сиуча, Тагайской волости, Вехов, окупил до 130 десятин и засевает всё сам, в аренду не сдаёт».
Кочетков (Сызранский уезд, Старо-Рачевская волость): «Крестьяне, купившие наделы – местные жители. Василий Миронов купил 10 наделов, Андрей Ярков – 10 наделов – обрабатывают сами».
Однако значительная часть «собирателей земли» купленную землю не обрабатывала, а сдавала её в аренду, требуя плату в 1,5-2 раза выше средней арендной платы по губернии.
Ломовцев (Симбирский уезд): «В селе Солдатской Ташле крестьянин Александр Нестеров имеет куплей наделов до 20 хуторов. Наделы ежегодно сдаёт в аренду».
Чирников (Сенгилеевский уезд, Новодевичья волость): «В других селениях есть «собиратели земли», которые сами живут белоручками, а купленную землю сдают в аренду по цене, вдвое увеличенной, или же сдают исполу, получая от исполъщика чистое зерно, при этом «выговаривают ещё от испольщика какую-либо услугу, например, подводы в город, работы при доме и т. д.».
Были среди покупателей наделов и «спекулянты».
Ключников (Ардатовский уезд): «В деревне Княжухе Киселёв скупил 6 наделов: из них 1 надел продал за 240 рублей, а купил его за 180».
Непобедимый голод
 Страшные бедствия испытывали крестьяне Поволжья в голодные годы. Эти голодовки по мнению историков и экономистов советского периода также во многом являлись результатом столыпинской перестройки деревни. Крестьянин Иван Павлов в статье «Письма о голоде», опубликованной в газете «Симбирские вести», писал:
Страшные бедствия испытывали крестьяне Поволжья в голодные годы. Эти голодовки по мнению историков и экономистов советского периода также во многом являлись результатом столыпинской перестройки деревни. Крестьянин Иван Павлов в статье «Письма о голоде», опубликованной в газете «Симбирские вести», писал:
«Голод охватывает одинаково все села. Есть сёла, поражённые голодом целиком и таких большинство... Есть сёла большие, зажиточные, базарные сёла, хотя бы взять в пример село Промзино, Алатырского уезда.
В этом же селе мне пришлось встретить таких, которые едят хлеб с желудями; здесь же многие кормятся милостыней, но надо заметить, что это не нищие, да и собирают они не по-нищенски: идут собирать женщины, которые считают это величайшим позором, но горькая необходимость и сознание того, что завтра дети будут cтонать без хлеба, заставляет их идти, и они, чтобы не быть замеченными, окутываются шалью и только поздно вечером, идут к наиболее добрым, порядочным людям и просят кусок хлеба.
В селе Студенце более двухсот дворов, все крестьяне, за исключением пяти, с осени покупают хлеб: у большинства и покупать не на что, – скот распродан, ни одной почти овцы во всём селе не осталось. Осенью насчитывали 120 коров, теперь осталось меньше полсотни и всего тридцать четыре лошади. Вот достоверные данные, служащие яркой иллюстрацией того ужасного положения, которое переживает деревня». («Симбирские вести» за 1907 год № 38 от 6 марта.)
Далее Павлов описывает впечатление о посещении им одной голодающей семьи:
«Прихожу к крестьянину, который уже более трёх недель питается лебедой, спрашиваю кусок хлеба из этой прелести. – Теперь уж он у нас похож на хлеб, – говорит крестьянин, – потому мешаем с ржаной мукой почти наполовину, а то ели больше недели из одной лебеды, да дело не пошло. Посадит баба в печь, тесто не пропекается, а только сохнет снизу и сверху, есть нельзя, не угрызёшь, только пустишь куски хлеба в щи – они растворяются, получается какая-то грязная болтушка – этим только и питались. Дошли до того, что сами все скружились. Дочь, 16-летняя девица, совсем испортилась, начались с ней какие-то припадки, и доктор сказал, чтобы её отдали куда-нибудь в услужение, хотя бы из-за хлеба, иначе-де она скоро умрёт.
А жена, которая подавала мне хлеб из лебеды – бедная женщина до чего же доведена: я до сих пор не могу забыть об этой несчастной жертве. Она умирала медленной, но мучительной смертью: она представляла из себя скелет, еле двигавшийся на ногах, ввалившиеся глаза, мертвецки жёлтый цвет лица и рук, с теми неприятными зловещими пятнами, которые бывают у покойников: она не могла уже больше употреблять эту пищу вторые сутки, чувствуя к ней окончательное отвращение и жаловалась, что у неё страшно рвёт в животе, «как будто грызут собаки»...
– Иногда нас называют «люценерами», – говорит крестьянин, – видно к тому дело идет, всё равно помирать-то. Теперь мы поняли в чём дело – ведь 22 тысячи десятин у нашего Роберт-Пьера, а у нас на троих работников приходится 22 сажени... вот он от чего голод-то». («Симбирские вести» № 347 за 10 марта 1907 года)/
Иван Павлов указывал, что описанные им эпизоды «представляют из себя не отдельные факты и не отдельные сёла, это почти общее явление, такое положение сплошь и рядом».
В заключение Павлов говорит:
«К нам приставлены люди, которые почти не считают нас за людей, которые лгут перед нами, обманывают нас, угнетают и издеваются над нами, затмевают от нас истину и справедливость, люди, которые примерами своей бессмысленной пошлой жизни отравляют нашу нравственность, воспитывают в нас позорное рабское унижение и грубые инстинкты, а затем всецело в этом обвиняют нас же и относятся к нам с презрением».
Впрочем, и в урожайные годы, благоприятные в сельскохозяйственном отношении, для крестьян передышка не наступала. Симбирская газета «Волжские вести» 18 декабря 1912 года писала:
«...1912 год считается плодородным по урожаю хлебов, но этот урожайный год трудный и тяжёлый для крестьян, потому что в нынешнем году с мужика берут все подати, недоимки имперскому капиталу, в общественные магазины и так далее. Словом, собирают теперь у крестьян всё, что мог задолжать в голодные годы. Благодаря крайне принудительному сбору податей и недоимок теперь большинство крестьян распродало не только лишний, но и необходимый семенной хлеб...».
Не хватило времени
Во время земельной реформы государство оказывало финансовую, экономическую и агрономическую помощь крестьянам. За 10 лет, с 1906-го по 1916 год Крестьянский банк скупил у помещиков больше 4,6 млн десятин земли и создал земельный фонд, который позволял продавать землю крестьянам на льготных условиях. Значительные льготные ссуды получали те, кто выходил на отруба и хутора.
За годы реформы банк продал крестьянам 3,8 млн десятин земли, более половины купили крестьяне-отрубники, четверть – хуторяне. В Симбирской губернии местным отделением банка в 1906–1913 годы было продано 174 792 десятины земли. (ГАУО, ф. 48, оп. 1, д. 180.) Но не все купившие эту землю смогли на ней работать. Деревенская беднота стала бороться с вновь появившимися богатеями не менее активно, чем раньше она боролась с помещиками. Дело доходило иногда до того, что «кулаки» вынуждены были ликвидировать свои хозяйства, отказываться от хуторов и отрубов, приобретённых с помощью Крестьянского банка.
В Симбирской губернии богатый крестьянин К.И. Котюжинский в заявлении Крестьянскому банку писал:
«Ввиду того, что очень часто нападают местные жители и грабят, что нет сил дальше выдержать... я должен отказаться от владения землёй, а потому, заявляя о сём Симбирскому Отделению Крестьянского поземельного банка прошу означенный отрубной участок принять обратно в собственность банка».
Как видим из представленных архивных свидетельств, во многом советские историки были правы, оценивая аграрные преобразования в России как неудачные. За годы земельной реформы Столыпину и Кривошеину не удалось создать слой крепкого крестьянства, образовать «класс мелких собственников – хуторян и отрубников». Предпринятых реформаторами усилий оказалось недостаточно, чтобы научить крестьян новым агротехническим приёмам, обеспечить их сельскохозяйственной техникой, семенами, повысить качество рабочего скота и молочного стада. В области кредитования крестьянских хозяйств также были просчёты, бюджетные ссуды на земельные улучшения были незначительны.
Однако не следует забывать, что Столыпин задумывал комплексную реорганизацию всей экономики империи, а не только в сельском хозяйстве, и рассчитывал, что эффект от неё будет получен в долгосрочной перспективе. Он говорил: «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешнюю Россию».
Пётр Аркадьевич не мог предвидеть ни развязанную в 1914 году Первую мировую войну, начатую через три года после его трагической гибели, ни исход Февральской и Октябрьской революций, существенно повлиявших на ход истории.
Лилия Васильева
В статье использованы материалы исследования И.Н. Трегубова «Экономическое положение крестьянства в Симбирской губернии в начале XX века»
«Мономах», №5(95), 2016 г.
От Большой Саратовской до Гончарова. Из истории центральной улицы Симбирска-Ульяновска
Места, 1.1.1941







