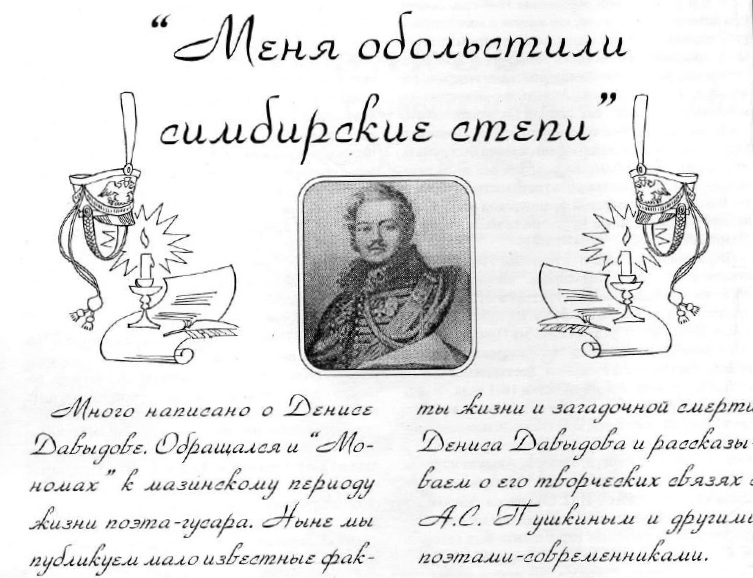
Его нельзя было не любить. Им восхищались друзья, воспевали поэты, художники писали его портреты. "Поэт-гусар, ты пел биваки, раздолье ухарских пиров и грозную потеху драки...", - восторженно писал о нем Пушкин. При жизни о нем слагались легенды...
Денис Давыдов. Дружелюбный, общительный, веселый!.. Что испытал отвергнутый поэт, когда оказался в глухом степном селе Верхняя Маза Сызранского уезда Симбирской губернии? Трудно представить. Чем талантливее человек, чем более он выделяется из толпы, тем больше ненависть к нему обывателей и правящей верхушки. Жалкие преследователи не оставили поэта в покое даже после его смерти. Чего стоит полное гнусной клеветы и бешеной злобы заявление генерала Полторацкого: "Давыдов, заржавевший в своей хвалынской деревне. Он кончил, как начал - попивая. Юноша, герой-гусар, чувственный писака, сделался хозяином-питухом. Перерождение куколки в бабочку очень натурально. Жалеть о смерти подобных людей - много горя будет".
Многие литературоведы, исследователи жизни и творчества Дениса Давыдова, с грустью писали о затворничестве поэта в симбирской глубинке. Конечно, горько было герою Отечественной войны осознавать несправедливость властей, но все же надо признаться, что десятилетний мазинский период жизни Давыдова (1829-1839) был активным и плодотворным, а сам поэт, изредка наезжая в столицы, буквально рвался в Мазу, где чувствовал себя свободным и независимым.
В симбирском поместье Денис Васильевич занимался хозяйством: выстроил винокуренный завод, устроил в саду пруд, копался в огороде. К крестьянам относился мягко, заботливо, убавил барщину, уменьшил оброк, при нужде помогал лесом, хлебом, деньгами, советом.
Одно из любимых занятий в Мазе - псовая и ястребиная охота. Охота отвечала азартному характеру Давыдова, его привычке к движению, борьбе. На местных разбойников нагнал такой страх, что достаточно было крестьянину сказать: "Я давыдовский", - как его отпускали с миром.
В Симбирской губернии в то время проживало немало интересных, прогрессивных людей - Ивашевы, Татариновы, Языковы, Бестужевы. С ними Денис Давыдов поддерживал тесные связи. В этих семьях, связанных близким родством, жило сочувственное отношение к декабристам, теплился огонек оппозиции николаевскому режиму.
Желанным гостем был поэт в Акшуате, где жил Н.И. Поливанов, товарищ Лермонтова по университету, в с. Языково у поэта Н.М. Языкова, в Репьевке у А.В. Бестужева, в Ундорах у родителей декабриста В.П. Ивашева.
Образ жизни поэта в эти годы стал строго размерен. Вставал Денис Васильевич очень рано, в четыре утра. После прогулки - литературные занятия. В девять часов завтрак, затем - обязательная маршировка. В три часа обед, непродолжительный сон - и снова литературная работа. Именно здесь, в степном селе, Давыдов осознал себя настоящим литератором, установил тесные связи с писателями и общественными деятелями эпохи. Он активно сотрудничает в "Литературной газете", "Современнике", "Библиотеке для чтения", "Сыне отечества", ведет обширную переписку. Адресаты поэта - А.Ф. Воейков, М.Н. Загоскин, М.А. Максимович, Н.М. Языков, П.А. Вяземский, Е.А. Баратынский, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин.
Особенно существенна переписка с Пушкиным, дружба с которым, несмотря на расстояние, крепнет и приобретает характер плодотворного сотрудничества. "Встав под знамена Пушкина", как заявил Денис Давыдов, он горячо ратует за привлечение к участию в "Современнике" Языкова, Баратынского, Хомякова. "Рассчитывай на меня, - пишет он Пушкину, - я под твоим начальством буду лихо служить".
Узнав о посещении Александром Сергеевичем Симбирска и Языкова, Давыдов горестно сообщает ему: "Ты был у Языкова, и я не знал о том. Неужели ты думаешь, что я мог 6ы засидеться в своем захолустье и не прилетел 6ы обнять тебя. Злодей, зачем не уведомил ты меня о том?"
Дружеские связи установились у Давыдова и с поэтом Николаем Языковым. Денис Васильевич высоко ценил талант волжского земляка.
"Вы мой душевный поэт, - писал Давыдов, - никто мне душу не возвышает более вас, никто не ласкает мое сердце более ваших стихов". "В обеих последних войнах стихи ваши... возились мною за пазухой, как волшебная ладанка..." ("Русская старина", 1884, т. 43).
С такой же теплотой отзывался о Денисе Давыдове и сам Н.М. Языков, недаром поэту-воину он посвятил такие восторженные строки:
Не умрет твой стих могучий,
Достопамятно живой,
Упоительный, кипучий,
И воинственно летучий,
И разгульно удалой.
Н.Языков. "Д.В. Давыдову"
Поэтический талант Давыдова снова ожил в Мазе и засверкал "гармоническими" стихами и "грациозно-пластическими образами" (Белинский).
"Знаешь ли ты, - писал Давыдов Пушкину, - на днях я написал много стихов, так и брызгало ими".
В Мазе Давыдов впервые предстал во всем многообразии своего таланта. Он завоевал, как авторитетно заявил Белинский, право стоять наряду с лучшими прозаиками русской литературы. "Не позволяют драться, я принялся описывать, как дрались", - говорил поэт. Он написал около 20 прозаических сочинений: мемуаров, военно-исторических статей и специально исследовательскую работу "Опыт теории партизанского действия". Давыдов блестяще опроверг Наполеона, лживо утверждавшего, что "великую армию" погубили якобы только суровые русские морозы. Военная проза Давыдова красочна и своеобразна, как и все, выходившее из-под пера этого разносторонне одаренного человека.
В Верхней Мазе поэту-партизану суждено было и закончить свою жизнь. 22 апреля 1839 года около семи часов утра Денис Васильевич скончался. По официальной версии, он умер от апоплексического удара, но вот в сентябре 1962 года правнучка Ольга Николаевна Давыдова заявила, что ее прадед покончил с собой после двукратного посещения его неким жандармским полковником и длительных, крайне его расстроивших бесед наедине с ним. В семье Давыдовых в этом факте не сомневались, хотя и тщательно его скрывали.
Так это или нет, сейчас утверждать сложно. Однако известно, что слух о самоубийстве поэта жил и среди мазинских крестьян. Так, в 1944 году на собрании в Мазе, посвященном памяти Д.В. Давыдова, 70-летний Андрей Никанорович Носанов заявил:
"Старики говорили, будто против царя он бунтовал, его за это и со службы отстранили. А как стал царь до него и тут добираться да притеснять, но, стало быть, не стерпел да и отравился" ("Ульяновская правда" №114, 1944 г.).
Показательна и такая деталь. Церковь отказывалась хоронить самоубийц. Вдове поэта с большим трудом удалось получить разрешение на похороны мужа в Москве, в Новодевичьем монастыре. Прах Давыдова в течение шести недель покоился в Мазе в склепе. Чтобы замолить грех мужа, жена поэта весь путь от Мазы до Москвы шла за гробом пешком.
К сожалению, имение в Верхней Мазе не сохранилось. На месте, где хранился прах поэта, разбит сквер. В нем поставлен памятник Денису Давыдову скульптора Айрапетяна на средства, полученные молодежью района от воскресников.
Материал подготовлен на основе исследований К. Селиванова, В. Орлова
«Мономах», №2 (17), 1999 г.
В Государственном архиве Ульяновской области рассказали, как симбиряне справлялись с морозами
Воспоминания, 27.1.2026







