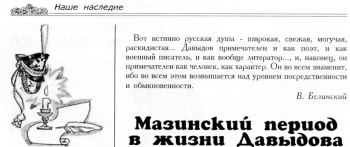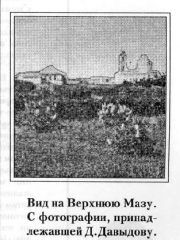Кому не известна судьба замечательного полководца и поэта Дениса Давыдова! Казалось бы, мы знаем о нем все: и о героическом участии в партизанском движении, и о замалчивании правительством его заслуг перед родиной, и о добровольной "ссылке" в глухую деревню. Но вот перед нами очерк Ольги Чибовой, рассказывающий о Мазинском периоде (Симбирская губерния) жизни Дениса Васильевича Давыдова, и оживают новые страницы биографии гения.
Денис Васильевич Давыдов - яркая фигура первого половины ХIХ века. Прямодушный и честный, остроумный и веселый, храбрый и энергичный, человек недюжинного военного дарования и ума, писатель и поэт, он пользовался огромной популярностью у своих современников. Всю свою жизнь (1784-1839) Денис Давыдов оставался горячим патриотом, веровавшим в непобедимость русского народа, в несокрушимую мощь Родины.
Детство Дениса Васильевича совпало с концом царствования Екатерины II, молодость - с царствованием Павла I, а зрелость и расцвет военной и творческой деятельности - с царствованием Александра I и Николая I. Военную службу начал в 1801 году юнкером. Пять лет был адъютантом князя Багратиона, а в 1812 году в чине подполковника уже командовал первым батальоном Ахтырского гусарского полка.
Накануне Бородинского сражения по личной инициативе Денис Давыдов получает от Багратиона с согласия Кутузова небольшой отряд (из 50 гусаров и 80 донских казаков), с которым открывает партизанские действия, принесшие ему громкую славу. Лев Толстой увековечил его на страницах своего романа "Война и мир" в образе партизана Василия Денисова. Его военная слава перешагнула рубежи родины, и имя его, как писал известный романист Вальтер Скотт, "остается в веках на самых блестящих и вместе горестных страницах русской истории". Денис Давыдов увековечен кистью художника Доу, воспет великим Пушкиным:
Певец гусар, ты пел биваки,
Раздолье ухарских пиров
И грозную потеху драки,
И завитки своих усов;
С веселых струн во дни покоя
Походную сдувая пыль,
Ты славил, лиру перестроя,
Любовь и мирную бутыль.
Герой 1812 года, друг Пушкина и декабристов, Денис Давыдов был участником почти всех войн, которые вела Россия при его жизни, и приобрел в них богатый боевой опыт. Сам они говорил о себе: "Имя мое во всех войнах торчит как казацкая пика". И, тем не менее, он пользовался у правительства репутацией человека дерзкого и политически неблагонадежного. Царизм мстил ему за независимый образ мыслей, за антиправительственные сочинения, написанные в молодости, за дружбу с Пушкиным и декабристами.
Постоянно наталкиваясь на недовольство и недоверие царя и высшего начальства, Денис Васильевич вынужден был в 1823 году уйти п отставку и сменить мундир на фрак. В надежде уйти от обиды, он уезжает в поволжскую глубинку.
Село Верхняя Маза Сызранского уезда Симбирской губернии получила в наследство в начале ХIХ века младшая дочь русского генерала Николая Александровича Чиркова - Софья, ставшая в 1819 году женой Дениса Давыдова. Имение находилось при речке Мазке в 170 верстах от губернского центра, в 42 верстах - от уездного, в 25 верстах от почтового стана (ныне село Новоспасское).
Впервые Давыдов приехал в село Верхняя Маза через год после свадьбы в июне 1820 года. Деревня па первых порах не понравилась ему. "Хаты словно ласточкины гнезда, были слеплены из хвороста и глины, покрыты старой соломой и производили жалкое впечатление", - читаем в романе Задонского "Денис Давыдов". Господский дом требовал капитального ремонта, пришлось принимать крестьян для приведения его в порядок. А вокруг - неоглядная, сухая, знойная степь.
С начала царствования Николая I Денис Васильевич решил вернуться в строй, надеясь на благоприятное к себе отношение со стороны молодого царя, тем более, что назревала война с Ираном. Давыдов получает назначение, хотя новый государь не питает любви к преданнейшему сыну своего Отечества.
1831 год. Герой первой Отечественной войны, больше всего ненавидевший интриги и сплетни, был вновь обойден в чинах и наградах, вышел в полную отставку и переехал па постоянное место жительства в степное имение Верхняя Маза.
В автобиографии поэт так охарактеризовал этот период жизни: «Опять в степях своих, опять гражданин, семьянин, пахарь, ловчий, стихотворец, поклонник красоты во всех ее отраслях…».
Основное же занятие - приведение в порядок военных записей и поэтические упражнения. В результате появились прекрасные стихи, вошедшие в сборник под заглавием «Стихотворения Дениса Давыдова».
Каждое новое издание стихов мазинского периода его жизни вызывало восторженные отзывы, особенно молодежи, и увеличивало популярность поэта. Часто первым слушателем стихов был его старший сын Василий. Вот как вспоминает он об этом: «Поэту всегда нужны слушатели, и я помню, что иногда при рождении поэтического детища он (Денис Давыдов прим. авт.) брал меня, 12-летнего мальчика, и с жаром читал мне свои стихи, которым я внимал с любовью, но столь же мало понимал их, как няня Пушкина. Листы, на которых написаны и проза, и стихи, напоминают иероглифы по трудности их чтения от беспрестанных помарок. Он был вообще очень строг относительно оборотов речи и тщательно разрабатывал свои произведения. Статьи его появлялись тогда в «Библиотеке для чтения» Сенковского и в «Современнике» Пушкина... Сенковский по его привычке мог исправлять слог статей…имел дерзость совершенно портить крайне своеобразное изложение статей моего отца. Пушкин, узнав об этом, писал Денису Васильевичу: «Сенковскому учить тебя русскому языку, все равно, что евнуху учить Потемкина».
Чтение, деятельная переписка с друзьями и псовая охота - вот что наполняло его досуг. Отсюда только изредка выезжал он в Москву, Петербург, Симбирск, Саратов и Пензу навестить знакомых и по делам.
Интересно одно из писем (приблизительно 1834 г.) графу Ф.И.Толстому, где он пишет: «Я здесь, как сыр в масле... Посуди: жена и долгожданные дети, соседи, весьма отдаленные, занятия литературные, охота псовая и ястребиная - другого завтрака нет, другого жарком нет, как дупели, облитые жиром, и до того, что я их и мариную, и сушу, и черт знает, что с ними делаю. Потом свежие осетры и стерляди, потом, ужасные величиной и жиром, перепелки, которых сам травлю ястребами...»
Старожилы села еще помнят истории, повествующие о грабежах на дорогах, особенно на Хвалынск и Сызрань. В этом же письме читаем: «... у меня есть и другая охота, от которой ты, верно, не отказался бы – гоньба за разбойниками. Здесь их довольно, и так нахальны, что не довольствуются разбоями на дорогах, а штурмуют господские дома. Я по старой партизанской привычке и за ними гоняюсь, хотя они, всех грабя, всякую мою собственность и мужиков моих щадят».
У всех Давыдовых со своими крестьянами были очень хорошие отношения.
По приезду в деревню Денис Васильевич запретил телесные наказания, убавил барщину, уменьшил оброк, открыл школу. Старожилы вспоминали такой случай: «Однажды в ночь у Давыдовых занемог слуга. Дело было осенью, за окном дождь, дороги размыты. Но Денис Васильевич посылает за фельдшером за 20 верст к соседу-помещику с просьбой одолжить медика на ночку». Интересно еще одно воспоминание, записанное у Н.Б. Волкова: «Я родился, когда барином у вас был Николай Денисович... Но отец мой в дворовых мальчиках у самого Дениса Васильевича находился и всегда, бывало, добрым словом его вспоминал... Против соседних господ Денис Васильевич куда как справедливей был! Случится ежели пожар или недород произойдет – он всегда поможет… Лошадей очень любил. Не только что своих, но всяких. Бывало, ежели заметит, что у мужика лошадь справная, обязательно остановит. «Спасибо, - скажет , - что ты за лошадью хорошо ходишь, вот тебе полтина за усердие». А ежели кто плохо ухаживает, лучше на глаза ему не попадайся…»
В Верхней Маю он часто посещал крестьянские избы. Помогал, спрашивал у стариков, как лучше обустроить земли. И все-таки всегда испытывал перец народом чувство какого-то большого неоплаченного долга. Деньги, выручаемые за проданную пшеницу, жгли ему руки. В одном из писем он признался: «Я вздумал все вырученные мною деньги за сочинения мои употреблять на прибавку жалования учителям и на покупку книг детям моим. Мне хочется, чтобы в совершенном возрасте сыновей моих они знали, что на воспитание их были употреблены не одни деньги пшеничные, но и те, которые я приобрел головой. Это может им послужить примером, ибо хороший пример действительнее всякого словесного наставления».
В фонде музея Верхнемазинской средней школы имени Дениса Давыдова есть интересная фотография: пруд правильной четырехугольной формы в окружении огромных деревьев (сюда фотокопия попала из архива родственницы поэта - Дарьи Николаевны Давыдовой). Денис Васильевич очень любил рыбную ловлю. Но речка Мазка глубока лишь в некоторых местах. Давыдов нанимает крестьян, и они чистят русло речки, а также роют котлован под пруд, куда впоследствии были выпущены мальки 15 видов рыб. В посадке деревьев (это были ветлы) принимал участие и Денис Васильевич. При Давыдове был заложен парк и сад, где росли цветы, семена которых прислали из Москвы и Петербурга. Была и оранжерея, где наращивались абрикосы, персики, грецкие орехи, столь редкостные в наших местах.
По соседству с Мазой в деревне Бестужевка жил дядя декабриста Бестужева, помещик средней руки А.В. Бестужев. В его имении Репьевке часто бывал Давыдов, писал соседу письма. Вот отрывок из одного письма 1836 года, еще раз подчеркивающий отношение поэта к своим крепостным: «Позвольте, любезнейший Алексей Васильевич, принять в больницу вашу человека моего на несколько дней. Он человек хороший, для меня очень нужный и которого мне не хотелось бы оставить здесь. Вы меня обяжете согласием на мою просьбу».
Образ жизни Давыдова в Верхней Мазе был строго размерен и неизменно определен. Из воспоминаний старшего сына Давыдова Василия: «Вставал регулярно и 3 часа утра, зимою и летом садился писать, завтракал в 9 часта при утреннем чае, гулял ими, лучше сказать, производил усиленную ходьбу непременно столько-то верст по измеренному им неоднократно саду; обедал в 3 часа и засыпал в кресле на несколько минут в пылу самого живого разговора с усиленным храпом, продолжая давать ответы. Потом снова письменные занятия, и, наконец, вечером - шутки и разговоры, всегда оживленные и интересные за вечерним чаем, а в 10 часов покой. Вот жизнь его в последние годы; при этом самая умеренная нища... Но зато повсюду и всегда его сопровождала трубочка, которую он набивал сам и курил целый день, несмотря на свои недуги, кашель и удушье».
Каковы же итоги мазинского периода жизни Дениса Давыдова?
Здесь были написаны им лучшие прозаические произведения, здесь появились его замечательные военные воспоминания об Отечественной войне 1812 года, о партизанском движении, о Суворове, Кульневе, Раевском и других славных русских полководцах, с которыми сталкивала его судьба. Сюда, в Мазу, приходили столичные журналы, книги Пушкина с дарственными надписями.
Давыдов много сделал в улучшении жизни крестьян: были отменены наказания, дети крестьян получали образование и медицинскую помощь.
Поэтому все горевали, когда узнали о том, что 22 апреля 1839 года около 7 часов утра Дениса Васильевича, их помещика, друга, покровителя, не стало. Последнее время его мучила астма, приступы которой усилились весной и приводили генерала в совершенное изнеможение, но за лекарем для себя так и не послал. Здесь, в Верхней Мазе, закончился жизненный путь великого сына России.
После Дениса Давыдова помещиком в Мазе считался Николай Денисович, сын, а затем внук Николай Николаевич. В первые годы советской власти дом был сожжен, сад вымерз и вырублен, пруд зарос, речку никто не чистит, и лишь огромные ветлы да название части улицы, где стоял дом, - "Сады" - напоминают о том, что в этом стенном старинном селе провел часть жизни (десять лет: 1829 по 1839) поэт-партизан Денис Давыдов.
Олега Цибова, учитель Верхнемазинской средней школы имени Дениса Давыдова
«Мономах», №2(5) 1996 г.
«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте
Воспоминания, 20.1.2026В Государственном архиве Ульяновской области рассказали, как симбиряне справлялись с морозами
Воспоминания, 27.1.2026