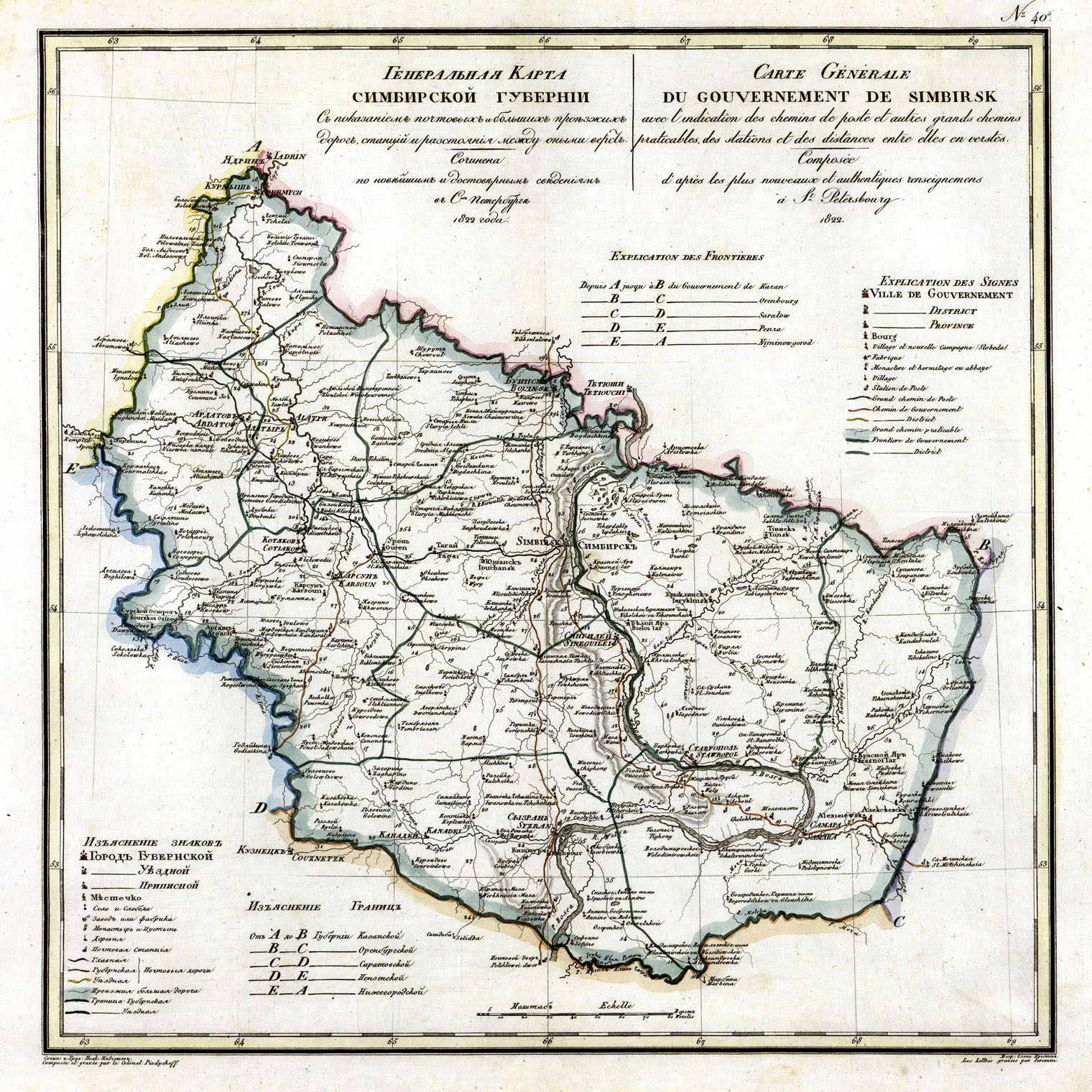
Советский суд, по замыслу его создателей, должен был стать не только самым гуманным судом в мире, но еще и нести просветительскую функцию, прививая широким слоям трудящимся, как бы сейчас сказали, правовое сознание. Именно для этого в стране широко практиковались выездные сессии, когда для рассмотрения того или иного «резонансного» дела суд выезжал туда, где было совершено правонарушение или проживали подсудимые, дабы на деле (гражданском, но чаще уголовном) со всей наглядностью продемонстрировать, что бывает с теми, кто нарушает советские законы.
О трех таких процессах 11 июня 1929 года докладывал ответственному секретарю Ульяновского Окружкома ВКП(б) товарищу Милх окружной прокурор Лепендин.
Процесс пошел
Первый суд проходил 26 мая в райцентре Новая Малыкла, куда специально съехались крестьяне из окрестных деревень и, главное, из Старого Сантимира, где некоторое время назад уже пытались провести выездной процесс над местным муллой Мухтаровым и жителем села Хайруловым. Однако судебное заседание не состоялось из-за волнений, вспыхнувших в защиту подсудимых.
И вот теперь предпринималась вторая попытка, так сказать, «на удаленке». Одновременно увеличилось и количество подсудимых: рядом с двумя прежними, на скамье разместились еще шесть человек: староста мечети, брат Хайруллова, а также четверо их односельчан – трое зажиточных и один бедняк. Всех судили по ст. 59 УК РСФСР за организацию массовых беспорядков и участие в таковых.
Обвинение по делу поддерживал лично окружной прокурор Лепендин. Ему в помощь в качестве общественных обвинителей сельская беднота выделила трех человек, в том числе одну женщину, а райком ВКП(б) направил заведующего местным потребобществом товарища Маслова.
На сей раз все прошло без сучка, без задоринки: староста мечети (кстати, лишенец) и один из братьев Хайрулловых получили по два года лишения свободы со строгой изоляцией. Еще троих участников выступлений из зажиточных осудили к шести месяцам заключения каждого, тут же заменив отсидку принудительными работами, а от обвинения бедняка прокурор и его общественные помощники отказались и того суд оправдал.
А вот материалы о мулле и еще двух братьях Хайрулловых были выделены в отдельное производство и направлены на дополнительное расследование, поскольку в их действиях суд усмотрел признаки более тяжкого преступления, предусмотренного «контрреволюционной» – 58 статьей УК.
Клан – кланом
Все по той же 58-ой, обвинялись и фигуранты следующего дела, слушавшегося в деревне Малаевке ныне Чердаклинского района. Сюда на судебное заседание, проходившее в саду на свежем воздухе, из окрестных сел собралось около 700 крестьян. В качестве подсудимых перед ними предстали девять жителей соседней Семеновки – семья Федоровых: четверо «стариков» и пятеро их сыновей. Вес обвинялись в «зажиме и терроризировании бедноты», а в качестве довеска, отягчавшего содеянное, в деле фигурировал их статус лишенцев, то есть кулаков, лишенных избирательного права, как классово чуждых.
Однако в этом процессе, в отличие от предыдущего, с самого начала все пошло наперекосяк. Например, во время процедуры так называемого установления личности подсудимых выяснилось, что лишенец среди них только один. Остальные предоставили суду справки о восстановлении в избирательных правах и об участии в выборах, поскольку никакими кулаками они, оказывается, не были, а были самыми что ни наесть середняками, хотя и крепкими.
Дальше больше. Свидетельские показания о преступной деятельности обвиняемых, сводились к общим фразам, типа «они всегда идут против бедноты», «выступают на собраниях против бедноты» и так далее. Просьбы же суда привести хотя бы один случай конкретных противоправных действий подсудимых, ставили свидетелей в тупик. Они начинали путаться, смущенно бубнить, что конкретных фактов назвать не могут, хотя и знают, что «действовали подсудимые заодно», или, что «о стариках им ничего такого не известно, а дети их дерутся». В общем, многократные и упорные попытки суда выудить из свидетелей хоть что-нибудь конкретное, успехом так и не увенчались.
Зато выяснилось, что практически все те, кто обвинял Федровых, носили одну и ту же фамилию – Семеновы, поскольку приходились друг другу родственниками. И вскоре у суда сложилось впечатление, что он участвует в битве двух кланов – Семеновых с Федровыми, к одному из которых в основном и принадлежало большинство жителей небольшого села в 65 дворов. И вот теперь местные «монтекки» и «капулетти» вспоминали прежние обиды и сводили друг с другом старые счеты. Причем, была среди этих полузабытых историй даже некая любовная интрижка.
Так, свидетель по фамилии Пермяков заявил, что всю жизнь страдает из-за Федоровых, поскольку мать прижила его когда-то от одного их родственника, который двадцать лет тому назад уехал из села. Видимо, в отместку за давнюю обиду свидетель и украл как-то у одного из Федоровых снопы, за что был осужден к принудительным работам.
Выступавший в суде Яков Семенов раньше тоже был середняком, имел несколько голов скота и платил 57 рублей налогу. Однако, «разделившись» в прошлом году, стал бедняком. Но его почему-то не только не освободили от налога, а наоборот, за неуплату самообложения отобрали и продали одну овцу. Выяснилось также, что в 1919 году Яков вместе с отцом и матерью был наказан Красными войсками за участие в выдаче чехам собственного брата.
Зато другой брат - Михаил Семенов, стал кандидатом в члены ВКП(б), что не помешало ему быть несколько раза судимым за самогон – в первый раз кандидата оштрафовали, а во второй приговорили к принудработам, поскольку кроме самогонки уличили еще и в присвоении чужого имущества. Последний факт даже попал в прессу: газета «Пролетарский Путь» опубликовала заметку о том, что Михаил Семенов, вместо сдачи хлебных излишков в кооперацию, продал их на сторону.
За самогоноварение пострадал и комсомолец Константин Семенов, тоже приговоренный за это к принудработам. А донесли на него как раз Федоровы. По этому поводу, кстати, и случилась упоминавшаяся свидетелями драка между двумя Федоровыми-младшими и Семеновым Яковом. По словам последнего, братья напали, когда он, укрыв с головами, вез после родов из бани жену, ребенка и бабку-повитуху. Их якобы и принялись охаживать железной палкой нападавшие. Федоровы же утверждали, что Яшка вывозил самогонный аппарат брата Константина, который как раз в тот день был задержан в землянке с самогоном. А вот аппарат у него тогда не нашли…
Все глубже и глубже погружаясь в межклановую сельскую свару, суд, тем не менее, не мог не отметить, что наблюдавшие за процессом крестьяне крайне сочувственно относились к подсудимым, и неприязненно – к их оппонентам. Суду даже поступали записки из зала, точнее, из сада с просьбами вызвать и допросить их авторов, способных поведать много чего интересного о Семеновых, отнюдь последних не красящего.
В общем, процесс с треском провалился и подсудимых, уже просидевших под стражей больше пяти месяцев, надо было оправдывать и отпускать. «Но мы, не находя целесообразным по ряду причин, выносить оправдательный приговор, считаем необходимым найти выход из положения и отложили дело для доследования, дабы в процессе доследования исправить допущенные по делу ненормальности, не сделав таким путем результаты показательного суда результатами нежелательного свойства», – смущено докладывал партийному начальству окружной прокурор.
Сквозь огонь и дым
Третий выездной процесс проходил 2 июня в Мелекессе. На скамье подсудимых понуро сидели жители села Асаново – бывшие председатель и секретарь тамошнего сельсовета, а также работник потребкооперации, тоже бывший. Все они обвинялись по статье 58, п. 8 УК – в умышленном поджоге дома уже нового главы сельского совета.
И снова все пошло не так, как ожидалось: свидетели по поводу случившегося ничего конкретного рассказать не могли, и кто совершил поджог, понятия не имели. А один, между прочим, комсомолец, даже отказался от своих показаний, данных во время следствия. Тогда он утверждал, будто один из подсудимых в двадцатом-двадцать втором годах, в бытность свою председателем сельсовета, якобы ограбил его мать, отобрав у той скот и имущество. А самого свидетеля не только снял с пайка Американской миссии помощи голодающим (АРА), но и два раза ударил в ответ на требование вернуть парня в заветный список нуждающихся. И вот теперь перед судом комсомолец утверждал, что ничего подобного никогда не говорил, а «написать-то все можно».
Никаких других «уличающих материалов» на подсудимых не было, если не считать таковыми «злобу привлеченных к ответственности с нынешним Предсельсовета на почве якобы неправильного лишения их избирательных прав, как занимавшихся ранее торговлей».
Что касается поджога, то обвиняемые утверждали: потерпевший сам подпалил свой дом, поскольку накануне застраховал его на 500 рублей. А получив триста с лишним (за вычетом стоимости спасенного имущества) рублей страховки, вместо старой избы с деревянной крышей, построил новую, под железом.
Косвенно эти утверждения подтверждались свидетельскими показаниями, в которых говорилось, что сперва председателево жилье занялось снаружи, на задах, а уже потом люди, сбежавшиеся на пожар, видели, что дым выбивался наружу и изнутри, из-под крыши его двора.
На стороне подсудимых, как отмечалось в отчете, была и собравшаяся в суде беднота, в основном, татары. Что же касается потерпевшего, то и он (кстати середняк), и поддержавший его местный учитель «явились в суд совершено оторванными от бедноты».
В отличие от предыдущей истории, на этот раз, несмотря на все репутационные издержки и прочие «результаты нежелательного свойства», всех подсудимых суд оправдал. И правосудие, в буквальном смысле пробившись сквозь огонь и дым, в конце концов восторжествовало.
Тем не менее, «Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости проведения соответствующих мер в указанных селениях в целях оздоровления там недостаточно здоровой, по моему мнению, атмосферы», – завершал свой отчет окружной прокурор Лепендин.
Источники:
ГАНИ УО Ф. 3, оп. 1. Д. 359. Л. 53-55
Владимир Миронов
«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте
Воспоминания, 20.1.2026В Государственном архиве Ульяновской области рассказали, как симбиряне справлялись с морозами
Воспоминания, 27.1.2026







