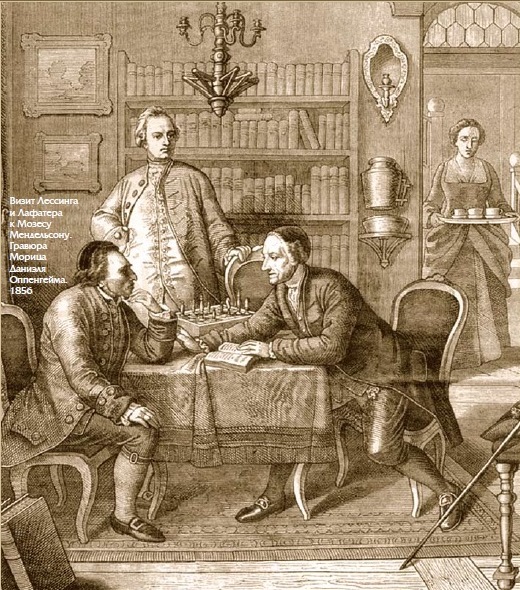
В Карамзинской библиотеке хранятся редкие книги конца XVIII века – книги, воспитавшие Карамзина. Медицинские и звёздные атласы, гороскопы и календари, травелоги и альбомы, трактаты и навигации – по этим изданиям вполне можно представить круг идей и картину мира того времени.Беседы с Кантом Николай Михайлович Карамзин целеустремлённо и внимательно создавал личную картину мира – собственно, для того он и отправился в европейское путешествие.
 Молодого исследователя (а Карамзину тогда было 22 года) интересовали прежде всего виды посещаемых территорий, нравы жителей, политическое и общественное устройство, бытовые мелочи, а также и научные моменты.
Молодого исследователя (а Карамзину тогда было 22 года) интересовали прежде всего виды посещаемых территорий, нравы жителей, политическое и общественное устройство, бытовые мелочи, а также и научные моменты.
В Кёнигсберге Карамзин встречался и беседовал с Иммануилом Кантом («... был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого метафизика...»). Прежде всего Кант – знаменитый философ, но не будем забывать, что Кант – и очень яркая фигура в тогдашней космологии.
В трактате «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755) Кант высказал несколько замечательных новаторских соображений, в том числе: о замедлении вращении Земли из-за приливов, вызванных Луной; о структуре колец Сатурна (по его мнению, кольца состоят из отдельных фрагментов (камней, пылинок), причём кольца разделены промежутками); об образовании планет из газопылевых околозвёздных дисков (тут он был одним из пионеров общепринятой сейчас теории); о наличии в древности кольца вокруг Земли (из него могла бы образоваться Луна); о возможном нахождении планет за Сатурном, в том числе и о существовании на краю Солнечной системы тел с очень вытянутыми орбитами, которые можно причислить скорее к кометам, чем к планетам (Уран был открыт Уильямом Гершелем в 1781 году). Несомненно, Карамзин имел какое-то представление не только о философских работах Канта, но и космогонических идеях певца «звёздного неба надо мной» (кстати, именно Кант заговорил о Млечном пути как о Галактике).
Собеседником Карамзина мог бы стать и Гёте (не стал по чистой случайности – Карамзин видел накануне хозяина в окне, но тот утром уехал из города).
А Гёте – это не только литература (что прежде всего привлекало Карамзина), это и оригинальная теория цвета (созданная в пику Ньютону), вызвавшая внимание современников, развенчанная ходом истории, но до сих пор нет-нет да привлекающая серьёзных комментаторов.
«Движущаяся анатомия»
Если от физики перейти к физиологии, то и тут Карамзин показывает осведомлённость в современных теориях и подходах. На первых страницах описания лондонского этапа путешествия Карамзин пишет об англичанах:
«Я спросил салату, но мне подали вялую траву, облитую уксусом: англичане не любят никакой зелени. Ростбиф, бифстекс есть их обыкновенная пища. Оттого густеет в них кровь, оттого делаются они флегматиками, меланхоликами, несносными для самих себя, и нередко самоубийцами. К сей физической причине их сплина можно прибавить ещё две другие: вечный туман от моря и вечный дым от угольев, который облаками носится здесь над городами и деревьями».

Тут мы видим отсыл сразу к трём естественно-научным концепциям, обсуждавшимся в то время. Что касается питания, то именно к середине XVIII века относятся попытки построения искусственных аналогов физиологических систем, в том числе и системы пищеварения. Француз Жак де Вокансон в 1738 году представил автоматическую фигуру музыканта-флейтиста, а до того мастерил механических уток, которые могли (по утверждению конструктора) двигаться, есть, пить и даже переваривать пищу и испражняться. При этом основным замыслом Вокансона была «движущаяся анатомия», которую он описывал как машину, «состоящую из нескольких автоматов, и в которой физиологические процессы нескольких животных воспроизводятся движением огня, воздуха и воды».
В 1741 году Вокансон предложил Лионской академии «создать автоматическую фигуру, движения которой будут воспроизводить все процессы в теле животного, как то: кровообращение, дыхание, пищеварение, движение мускулов, сухожилий, нервов и т. д.
Используя этот автомат, мы сможем осуществлять опыты по физиологии животных и... делать из них выводы, позволяющие нам распознавать разные состояния человеческого здоровья». Задача оказалась, по-видимому, непосильной для механика-самоучки, через двадцать лет (в письме к Людовику XV) Вокансон ставит для себя более частную задачу создания гидравлической модели кровеносной системы, для чего он предполагал устройство сложной системы каучуковых трубок.
В 1749 году на докладе в Руанской академии хирург Клод-Николя Ле Ка предложил создать искусственного человека. Один из слушателей доклада записал:
«Месье Ле Ка поведал нам о замысле создать искусственного человека. Его автомат будет обладать кровообращением, дыханием, квазипищеварением, выделением, а также сердцем, лёгкими, печенью, мочевым пузырем и, прости Господи, всем, что оттуда исходит. Если он подхватит лихорадку, мы пустим ему кровь, дадим ему слабительного, и он будет совсем как человек – даже слишком».
В описании своего посещения лондонского собора Святого Павла Карамзин делает небольшое отступление, подтверждающее, что он знаком с попытками представления живых существ машинами:
«Декарт, который всех животных, кроме человека, хотел признавать машинами, не мог слушать соловьёв без досады: ему казалось, что нежная филомела, трогая душу, опровергает его систему, а система, как известно, всего дороже философу...».
«Концепция миазмов»
Но приведённый нами ранее карамзинский пассаж о сплине англичан касается ещё двух тем. Первая – влияние погоды и климата на психическое здоровье, вторая – популярная в XVIII веке «концепция миазмов», связывающей различные заболевания (вплоть до эпидемий) с дымами и запахами. В течение XVIII века в рамках общей программы просвещения, которая касалась и социальной гигиены, были созданы различные классификации запахов, газов и образцов атмосферы, более того, именно тогда появились первые устройства и методы для определения состава воздуха, в том числе и содержания в нём углекислого газа (ещё в 1754 году Джозеф Блэк выяснил, что открытый им углекислый газ может быть удалён из атмосферы, например, при обжиге извести).
В русский язык слово «миазм» проникло в 1780-х годах, сама же «концепция миазмов» приписывала возникновение различных болезней (от горячки до чумы) действию дурных запахов, вызванных брожением, гниением и порчей воздуха. Теория миазмов была опровергнута лишь столетие спустя работами Коха и Пастера. Поэтому совершенно естественно для Карамзина объяснять недомогания и психические расстройства англичан вездесущим дымом от сжигания «земляного угля».

Ещё любопытнее связывание Карамзиным душевных расстройств англичан с климатическими факторами («вечный туман от моря»). В трактате французского физика и медика Пьера Бертолона «Об электрической материи тела человеческого в здоровом и болезненном состоянии», опубликованном на русском языке в 1789 году, приводится уникальный «Журнал периодических пароксизмов одного безумного» 1773 года, где месяц за месяцем тщательно фиксируются изменения погоды (ясно, облачно, дождь, туман и проч.), лунные фазы и соответствующее им состояние пациента: «печальное молчание», «беспокоен и болтлив», «бешен» или «спокоен». По итогам исследования приводится таблица, на основании которой читатель должен убедиться в несомненном влиянии на психическое состояние «безумного» как фаз луны, так и состояния атмосферы. Так чтозамечание Карамзина о связи «вечного тумана от моря» с меланхолией англичан вполне в духе времени: «Мрачный флегматичный британец с жадностию глотает солнечные лучи, как лекарство от его болезни, сплина».

Природа электричества
Отметим, что конец XVIII века – время увлечения электричеством. Аббат Бертолон размышлял об электрической материи, находящейся в атмосфере и в человеческом теле, о влиянии её на человека, давал читателю рекомендации «как электризовать недостатком, или отрицательно, и электризовать избытком, или положительно».
 Напомним, что в 1791 году Гальвани продемонстрировал опыты с животным электричеством, а ещё раньше, в 1789 году с лёгкой руки Месмера начался бум животного магнетизма. Но и полувеком раньше электричество было модной темой, и им пытались объяснять многое. Наш великий соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов предполагал, что многие болезни связаны с повреждением «соков» в теле и с нарушением вследствие этого способности воспринимать атмосферное электричество. Он не только объяснял всё тем же атмосферным электричеством полярные сияния, но и утверждал электрическую природу свечения хвостов комет, что уже тогда встречало заслуженные возражения многих физиков.
Напомним, что в 1791 году Гальвани продемонстрировал опыты с животным электричеством, а ещё раньше, в 1789 году с лёгкой руки Месмера начался бум животного магнетизма. Но и полувеком раньше электричество было модной темой, и им пытались объяснять многое. Наш великий соотечественник Михаил Васильевич Ломоносов предполагал, что многие болезни связаны с повреждением «соков» в теле и с нарушением вследствие этого способности воспринимать атмосферное электричество. Он не только объяснял всё тем же атмосферным электричеством полярные сияния, но и утверждал электрическую природу свечения хвостов комет, что уже тогда встречало заслуженные возражения многих физиков.
В Лондоне Карамзин посетил заседание Королевского общества, где присутствовал при разборе переписки англичан с французскими коллегами под председательством президента Общества господина Бэнкса. «Человек тихий и для англичанина довольно приветливый». Джозеф Бэнкс был фигурой весьма незаурядной. Натуралист и ботаник, он участвовал в нескольких морских экспедициях, в том числе в Австралию, из которых привёз множество образцов растений.
По просьбе короля Бэнкс курировал реорганизацию королевских ботанических садов Кью, вскоре ставших крупнейшим в мире собранием живых образцов флоры, а также гербариев и художественных изображений растений.
«Я один раз был в славном Кьюском саду, Kew-Garden, месте, которое нынешний король старался украсить по всей возможности... Там китайское, арабское, турецкое перемешано с греческим и римским. Храм Беллоны и китайский павильон; храм Эола и дом Конфуциев; арабская алгара и пагода!» – запишет Николай Карамзин.
Веточка на память

В 1799 году Бэнкс стал одним из организаторов Королевского института – вместе с Генри Кавендишем и другими видными учёными. Бэнкс был приверженцем и пропагандистом систематики Карла Линнея, человеком очень широкого кругозора и самых прогрессивных для своего времени взглядов на биологию. Так что совершенно по праву, как указывает в «Письмах...» Карамзин, на заседании «перед ним лежал золотой скипетр, в знак того, что просвещённый ум есть царь земли».
«Я умствую: извините, – писал Карамзин. – Таково действие английского климата. Здесь родились Невтон, Локк и Гоббес!».
Посетив Вестминстерское аббатство, Карамзин описывает «памятник Невтона» и скрупулёзно переводит латинскую надпись с перечислением ньютоновых заслуг: «определил движение и фигуру светил небесных, путь комет, прилив и отлив моря, узнал разнообразие солнечных лучей и свойство цветов...».
Сын своего времени, Карамзин впитал дух сентиментализма Стерна – и позже сам привлёк этот дух к родным просторам. Вот он посещает дом, «где умер философ и стихотворец Поп»:
«Я видел его кабинет, его кресла – место, обсаженное деревами, где он в летние дни переводил Гомера, – грот, где стоит мраморный бюст его и откуда видна Темза, – наконец, столетнюю иву, которая чудным образом раздвоилась и под которой любил думать философ и мечтать стихотворец; я сорвал с неё веточку на память».
Непрестанное стремление Карамзина – наблюдать «разнообразные картины человеческого труда и природы», его идеал – «счастье сельского жителя, любителя наук и любимца муз». Однако при всей элегической устремлённости «Писем...» внимательный читатель увидит на их страницах и приметы становления естественно-научного мировоззрения, разнообразные следы влияния на молодой ум «русского путешественника» научных концепций, дискуссий и практик.
Евгений Стрелков
«Мономах», №6(96), 2016 г.
«Народным я в сердцах останусь. Памяти Виктора Сафронова (1932-2025)»
События, 12.2.2026В Краеведческом музее расскажут об истории формирования археологической коллекции
События, 12.2.2026Жорес Трофимов. Воспоминания. «Почему у меня такое странное имя – Жорес?»
Воспоминания, 15.8.1924







