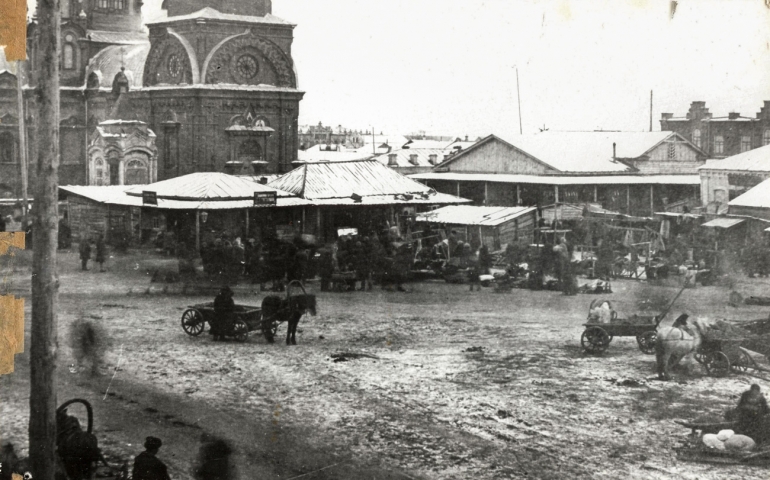
Летом 1932 года в Бухтеевке Ивановского сельсовета Ульяновского района случился массовый выход местных крестьян из недавно сформированного колхоза: только за июль месяц колхозный строй покинула более чем половина хозяйств – двадцать четыре из сорока двух. Большинство новоявленных единоличников были середняками и двое – беднотой.
Столь резкая «расколлектвизация» встревожила местную власть. Она принялась искать причину внезапного разочарования бухтеевцев в социалистическом способе ведения сельского хозяйства и нашла таковую. Звали ее, точнее, его Андреем Николаевичем Акимовым. Во всяком случае, в письме, поступившем в местную газету, утверждалось, будто именно этот «элемент» активнейшим образом агитировал односельчан вырваться из колхозной кабалы и вернуться к вольному единоличному труду.
Как ни странно, но письмо не было анонимным. Его авторы «фамилии которых известны редакции», утверждали, что сам Акимов – «кулак, лишенный избирательных прав за содержание в прошлом терочно-паточного завода и мельницы, судившийся ранее за убийство крестьянина, в настоящее время скрывается в Бухтеевке». Тем не менее, его жена, состоявшая в колхозе, получала паек не только на себя, но и на супруга, поскольку сельсовет выправил удостоверение будто бы бывший кулак является бедняком. Покрывал же саботажника, бывший предколхоза М.Д. Бодров, тесно повязанный с Акимовым совместными попойками.
Кроме экс-председателя, кулак будто бы активно спаивал своего родного брата Сергея, ранее судившегося за убийство, и его товарища Ивана Карпеева, чтобы с их помощью «стереть с лица земли активиста, колхозного бедняка Васенина Никанора Михайловича». Поводом к «стиранию» послужил инцидент, случившийся 7 августа 1932 года, когда пьяные Карпеев и Сергей Акимов напади на колхозного бригадира. Но за того вступился Васенин и хулиганам пришлось отстать. Однако вечером они подкараулили бедняка-активиста и жестоко его избили, сломав ребро и нанеся несколько ударов пол-литровой бутылкой.
Прибывший утром в деревню милиционер Никитин направил пострадавшего на медицинское освидетельствование в Ключищенскую лечебницу, где ему дали справку, что побои являются легкими. Из милиции дело направили в Нарсуд, оттуда – прокурору… В общем расследование тянулось уже полтора месяца. А злодеи, тем временем, оставались на свободе и угрожали Васенину убийством.
«Необходимо делу дать политическое значение. Акимова и Карпеева посадить и судить самым строгим народным судом за избиение активиста-колхозника», – требовали авторы письма в газету.
В те времена работа по жалобам граждан, особенно тем, что поступали в средства массовой информации, была важнейшим направлением прокурорской деятельности. Только за вторую половину 1931 года ульяновская городская прокуратура проверила 1216 таких сигналов и газетных заметок, удовлетворив, то есть сочтя подтвердившимися 698 из них. Еще 201 обращение после проверки было направлено в другие организации «для принятия решений по существу». 18 дел, заведенных по газетным заметкам, было направлено в суд.
Вот и проверкой обстоятельств, изложенных в письме из Бухтеевки, занялись основательно: против Андрея Николаевича Акимова возбудили уголовное дело по статье 109 УК, каравшей за злоупотребление властью или служебным положением, а его самого взяли под стражу.
В процессе расследования Нарследователь Железина выяснила, что никаким кулаком подследственный не был, разве что – середняком, да и то, не он, а его родители. Сам же Акимов работал пастухом у местного богача Васина, на дочери которого и женился в конце 1925 года. Именно супруга владела третью упоминавшегося в письме крахмально-терочного завода, а также крупорушкой и мельницей, хотя последняя на момент женитьбы. уже не работала. А злополучный завод был сдан в аренду кулаку Назарову. Причем не Акимовым, а его тещей. Сам же он трудился на предприятии, как рядовой работник. Продали и крупорушку. В общем, никаким буржуйским хозяйством Акимов не распоряжаться – его к этому просто не допускали ни жена, ни две снохи. Так что не был Андрей Николаевич ни кулаком ни даже подкулачником. Разве что – подкаблучником, имевшим в своем хозяйстве лишь корову, лошадь и трех овцы. Земли в аренду он тоже не брал и наемной силы не привлекал за ненадобностью таковой.
Более того, Акимов принимал самое активное участие в коллективизации. А когда начался «отлив», ходил по дворам, уговаривая женщин не покидать колхоз, а выходить на прополку колхозного проса, поскольку как раз в это время шла прополочная кампания.
Так что сведения, изложенные в письме в газету теми самыми Иваном Бодровым, которого Акимов якобы спаивал и Никанором Васениным, коего руками местных алкашей он будто бы собирался «стереть с лица земли», не подтвердились. А причина навета, как выяснила Железина, стало то, что названные граждане воровали семенной овес, а Акимов их на этом поймал.
В итоге дело против Андрея Николаевича прекратили и из-под ареста освободили.
А вот о том, что стало с его хулителями, история умалчивает.
Исключение или правило?
Эта история, как, впрочем, и многие другие, в очередной раз опровергает миф о том, будто «при Сталине» всякий донос заканчивался не только арестом, но и почти неминуемым расстрелом. Или (если очень повезет) десятью годами ГУЛАГа «без права переписки».
Но, может быть, случай с Акимовым – счастливое исключение, неожиданный сбой в отлаженной карательном машине?
На конец февраля 1931 года Ульяновский следственный изолятор, рассчитанный на 350 человек, был перегружен больше, чем на 200 процентов: по списку в нем числился 1261 сиделец. 888 из них содержались непосредственно в камерах, где на всех не хватало нар, белья и прочих бытовых принадлежностей. Как следствие – антисанитарное состояние помещений. Положение могло быть еще хуже, если бы часть заключенных – 373 человека, не находились на внешних работах, то есть трудились на предприятиях города и района, при которых и жили. Сейчас подобный контингент называют расконвоированными.
В общем, арестовывали действительно много, причем не всегда по делу, что и показывали регулярно проводившиеся в «советских застенках» прокурорские проверки. Например, за первое полугодие того же года таковых было восемь. В результате шестьдесят один узник оказался на воле. Освобождение коснулось, главным образом, следственных заключенных, содержащихся под стражей без достаточных к тому оснований, а также пожилых людей старше шестидесяти восьми лет, больных, требующих за собой ухода и не способных ни к какому физическому труду.
По итогам еще трех проверок, проведенных в первом полугодии следующего, 1932 года, из-под стражи было отпущено двадцать незаконно содержащихся там арестантов.
Внеочередная проверка мест лишения свободы прошла в конце июля – начале августа того же года. Для этого в соответствии с приказом НКЮ № 23/с прокуратурой была даже создана Особая Комиссия, изучившая дела 605 заключенных и освободившая 37 из них. В их числе были отпущены 26 осужденных, так и не дождавшихся рассмотрения Крайсудом и откровенно заволокиченых таковым их кассационных жалоб. Кассационный процесс в нарушение всех установленных законом сроком тянулся порой аж до восьми месяцев. Один заключенный был освобожден потому что… давно уже отсидел свой срок, но его почему-то забыли отпустить. Оказались на воле и двое несовершеннлетних узника, арестованных незаконно.
Свою лепту в разгрузку ульяновских тюрем внес и Помощник Краевого прокурора товарищ Кронит, своей властью по разным причинам освободивший еще 73 заключенных. Плюс шесть человек покинули изолятор в результате удовлетворения их жалоб, поданных прокуратуру.
И это только за два полугодия. Между тем, подобных отчетов множество.
Кто-то возразит, мол, все освобожденные не были политическими. А попади они в тюрьму по пресловутой 58-й статье… Вот уж тогда им точно век воли не видать.
В июле 1932 года по пункту10 (шпионаж) упомянутой статье был арестован житель малограмотный шестидесятилетний житель Сенгилея Василий Петрович Евсеев, он же Полеев. Под политическую статью дед подходил идеально – бывший владелец хлебопекарни, лишенный за это избирательных прав, в 1927 году он уже был осужден на 5 месяцев лишения свободы по 107 статье УК за «злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или не выпуска таковых на рынок».
Тем не менее, изучив дело «шпиона» оперуполномоченный особого одела ОГПУ Семнов, пришел к выводу, что «следствием материала для его привлечения к ответственности добыто недостаточно» и постановил дело в отношении арестованного прекратить и из-под стражи его освободить.
Аналогичное решение 30 июля 1032 года было принято и в отношении сорокапятилетней жительницы села Св. Озеро Челновершинского района Камяновой
Кроме того, что достаточных улик следствием не добыто, в постановлении говорится так же о том, что «в привлечении ее к ответственности нет никакой целесообразности».
И, наконец, еще одна «не типичная» история: 11 декабря 19232 года жительнице Ульяновска гражданке Лавровой ОГПУ вернуло изъятые у нее «в период проведения операции по изъятию валюты» серебряные вещи: ризу с иконы, ложки: восемь столовых, три десертных и девять чайных, а также серебряные часы. Оказалось, что чекисты перестарались, поскольку конфискации подлежали лишь валюта и золото. Серебро в этот перечень не входило. В общем, разобрались и ошибку исправили.
Подобных документов в ульяновском архиве тоже предостаточно. Так что случай с подкаблучником Акимовым совсем даже не исключительный.
Источники:
ГАУО Ф. Р-1435, оп. 1, д. 96, л. 10-21, 22, 22 об., 23, 67, 67 об.
ГАУО Ф. Р-1435, оп. 1. д. 19, л. 120, 125.
ГАУО Ф. Р-1435, оп. 6. Д. 13. Л. 105,106.
ГАУО Ф. Р-1435, оп. 7. д. 6, л. 42
Владимир Миронов
«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте
Воспоминания, 20.1.202621 января 1924 года умер Ленин. Дворец книги показал газеты того времени
События, 21.1.1924Номер «Ульяновской правды» с Указом об образовании Ульяновской области
События, 19.1.1943







