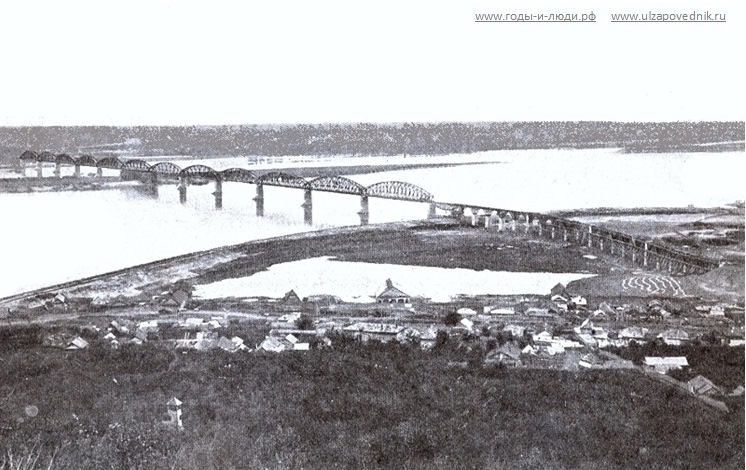
Начало по ссылке: Век воли не видать. Часть 1
На песчаный карьер – три человека
Самое интересное, что история с Данилиным не была чем-то исключительным – примерно в то же самое время нечто очень похожее произошло и с его коллегой – надзирателем все того же ульяновского Изолятора двадцатидевятилетним беспартийным выходцем из крестьян-бедняков, отцом троих малолетних детей Павлом Федоровичем Саловым.
В период с 16 августа по 5 октября того же 1934 года Салов надзирал за группой заключенных, трудившихся на карьере у станции Киндяковка. А помогали ему в этом два бойца внутренней охраны из числа (внимание!) лишенных свободы, то есть самих же зеков!
Коллектив сложился дружный, основанный на взаимном доверии и взаимопонимании, так что у барака, где жили заключенные, даже посты на ночь не выставлялись. А зачем, если гражданин начальник нередко присутствовал там лично, за кампанию с сидельцами распивая водку, которую прямо «на дом» приносили «посторонние лица, постоянно допускавшиеся для свиданий».
Ну, а паче сугубо мужская кампания надзирателю наскучит, его суровый служебный быт всегда готова была скрасить уборщица барака Буренкова, с которой Салов «жил, как с женой», у нее же и пьянствовал, расплачиваясь за любовь да ласку хлебом, предназначенным для заключенных и даже отдал на хранение… свой служебный наган. Впрочем, не только он, теми же привилегиями пользовался и внутренний охранник Еремеев.
Время от времени Павел Федорович отбывал из расположения в город, чтобы там гульнуть и расслабиться уже культурно, по-городскому. В таких случаях подопечный контингент он спокойно оставлял на своих коллег из «внутренней охраны». Если, конечно, не брал с собой и их, а также лишенного свободы гражданина Вавилова, на квартире сестры которого вся кампания обычно и пьянствовала. В качестве вознаграждения за организацию «вечеров отдыха» благодарный гражданин начальник даже отпустил гражданина Вавилова на малую родину в Сенгилей, откуда тот вернулся лишь на пятые сутки.
Впрочем, пользовались отпусками и другие подопечные Салова, а некоторые даже задерживались в таковых на неопределенное время, как, например, лишенные свободы, но неожиданно ее вновь обретшие граждане Бегланников, Серазов и еще один, чье имя в документах не упоминается. Их нежелание вернуться в Киндяковку на карьер начальство Салова расценило как побег и объявило всех троих в розыск. А его самого отдало под суд, где главными свидетелями обвинения выступали те самые сидельцы, с которыми подсудимый пьянствовал и которых отпускал в многодневные увольнения. В общем, сколько зека не пои, он все равно на волю смотрит и, как говорил Косой из фильма «Джентльмены удачи», «при первом же скачке расколется». Так оно и вышло.
Еще одна группа лишенных свободы все того же Ульяновского изолятора в те же последние летние и первые осенние дни того же года трудилась на сенокосе. А присматривавшие за ней надзиратели Лебедев и Тарасов, кое-за кем все-же не углядели. Сколько всего народу было под их опекой, и сколько разбежалось, в документах почему-то не указано. Но, видимо, не очень много, поскольку следователь Кирпичников постановил «дело в уголовном порядке против Лебедева и Тарасова не возбуждать, а направить Начальнику Изолятора для наложения дисциплинарного взыскания в порядке подчиненности». Спасло обоих то обстоятельство, что «по роду работ лишенные свободы были разбросаны один от другого на большом расстоянии во время сенокоса на лугах, а местность была заросшая кустарником» в силу чего два человека, по мнению следствия, просто физически не могли уследить за всеми.
При попытке к бегству...
И все же было бы неверным утверждать, что все сотрудники ульяновского ГУЛАГа относились к службе так же безалаберно и халатно, как некоторые коллеги. И что доверенные их присмотру заключенные могли покидать места отбытия наказания, когда им вздумается и без особого риска. Подтверждение тому – еще две истории из жизни знаменитого сухопутного «архипелага».
Первая случилась 30 июня все того же 1934 года. В тот день команда лишенных свободы была направлена на волжскую пристань для срочной погрузки на баржи леса, предназначенного к отправке военному ведомству. Во время работы внимание конвоя привлекло подозрительное поведение троих заключенных: Федотова-Волкова, отбывавшего полтора года по приговору Тройкой ПП ОГПУ СВК, Скучинина, получившего два года за покушение на умышленное убийство и Джюмасана Момед, севшего на год и четыре месяца за кражу. Рассудив, что, скорее всего, троица замышляет побег, ее решили отправить обратно, в изолятор. Подозрение подтвердилось, когда командир взвода охраны Егоров вел всех троих с пристани через город обратно в ИЗО: улучшив момент, конвоируемые вдруг бросились в рассыпную. Видимо, к чему-то подобному взводный был готов и сразу же открыл по беглецам огонь из штатного нагана. Федотову-Волкову пуля попала в плечо и спустя какое-то время он скончался.
Следующее ЧП случилось уже на следующий день – 1 июля, когда 96 заключенных под охраной семи конвоиров работали на ульяновском Лесозаводе. Сначала все шло нормально. Около полудня, когда объявили обеденный перерыв, лишенные свободы потянулись к заводской столовой, рассаживаясь возле нее в тенечке в ожидании приглашения к столу. Подошли и Алимовы, видимо, братья: Абдрашит, осужденный на 8 лет за конокрадство и Зинаметдин, ожидавший суда за подстрекательство к массовым беспорядкам.
Потолкавшись среди остальных, братья вдруг, как по команде, бросились в разные стороны: первый – по направлению к пристани, второй – к городу через подгорные сады. Охранник из числа заключенных Еремеев, замети «рывок» и выстрелом из винтовки, поднял тревогу, сам оставаясь на посту и охраняя остальных заключенных.
Пустившийся в погоню за Абдрашитом охранник Ермолаев, вскоре нагнал его и вернул «в общий строй». А надзиратель Старостин, преследовавший Занебетдина, отыскал беглеца в какой-то затерявшейся в садах полузаброшенной конюшне, где тот попытался спрятаться от погони.
– А, ну, выходи, – поигрывая наганом приказал надзиратель. И предупредил; «Только без глупостей. Идем спокойно. Снова дернешься, стреляю». Неудачливый беглец выбрался наружу и понуро побрел впереди конвоира по направлению к заводу. Казалось, он смирился с судьбой. Однако, когда короткая процессия поравнялась с огромными штабелями леса, Занебетдин решил рискнуть еще раз и юркнул в проход между «кварталами» бревен. Но оторваться от надзирателя не удалось: тот бежал шагах в пятнадцати сзади, требуя остановиться, и стрелял в воздух, что лишь подстегивало беглеца и придавало ему прыти. Казалось, еще немного, и он затеряется в лабиринте штабелей… Не успел – последний выстрел Старостина был прицельным и сразил Алимова наповал.
По обоим ЧП проводилось прокурорское расследование и в обоих случаях действия надзора были признаны законными, а применение оружия – обоснованным «имея в виду, что убийство произошло с целью воспрепятствовать к побегу л/св., и что применение выстрела вызывалось необходимостью», с чем трудно спорить.
Эпилог
Сделаем некоторые выводы, которые на фоне во многом мифологизированного представления о ГУЛАГе, могут показаться неожиданными.
Во-первых, осужденным обитателям «архипелага» полагались отпуска.
Во-вторых, им полагались и законные выходные, а администрация не имела права заставлять их в эти дни работать.
В-третьих, заключенные, с согласия все той же администрации, могли подрабатывать в собственных интересах.
В-четвертых, основная масса лишенных свободы была несклонна к побегам, в силу чего за пределами тюремных стен их охрана была сугубо символической.
В-пятых, охраняли заключенных не только надзиратели, принятые на службу с воли, но и «внутренняя охрана», набиравшаяся из самих зеков. При этом, как штатный, так внештатный конвой был вооружены.
Согласимся, что все вышеописанное и перечисленное как-то не очень вяжется с устоявшимися представлениями о жестоких и бесчеловечных порядках, царивших на пресловутом «архипелаге».
Источники:
ГАУО Ф. Р-1435, оп. 1.Д д 464, л. 3, 5, 8, 10, 50, 118.
http://old.memo.ru/history/nkvd/gulag/r1/r1-4.htm
Владимир Миронов
От Большой Саратовской до Гончарова. Из истории центральной улицы Симбирска-Ульяновска
Места, 1.1.1941







