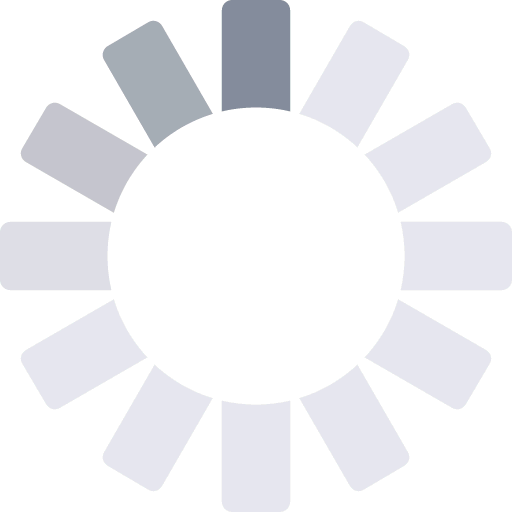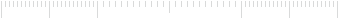В областной Книге памяти жертв политических репрессий упомянуты отец и сын Премировы. Михаил Львович Премиров, уроженец Саратовской области, житель Ульяновска, и его сын Лев Михайлович, 1912 года рождения, житель Ульяновска, студент Московского художественного техникума – оба были обвинены в «помощи международной буржуазии, направленной на свержение социалистического строя» и осуждены.
Михаил Премиров родился 21 июня 1878 года по старому стилю, в селе Ахматово Ардатовского уезда Симбирской губернии. Отцом его был священник Лев Иванович Премиров, матерью – дочь священника Александра Михайловна, урождённая Троицкая. Дед, псаломщик, получил фамилию Премиров в духовном училище. Фамилия прадеда – Страхов. Отец умер, когда мальчику было четыре года. Семья, в которой было ещё четыре девочки, оказалась в тяжёлой нужде. Однако жили дружно, много читали, сочиняли рассказы и устраивали литературные конкурсы. Сёстры учились в Симбирском епархиальном училище.
В 1890–1899 гг. Михаил Премиров проживал в Симбирске, учился на казённый кошт в духовном училище, затем в духовной семинарии, которую окончил по первому разряду. После окончания семинарии начинающий писатель служил псаломщиком в церкви села Елаур Сенгилеевского уезда, затем учительствовал в двухклассной церковно-приходской школе в селе Петропавловском Самарского уезда. В августе 1901 года он прерывает учёбу из-за участия в студенческих волнениях и увлечения литературным творчеством. Поселившись в Саратове, где жила его сестра, становится корреспондентом волжских и столичных газет и журналов.
В «Приволжском крае» публикует рассказы и ведёт судебную хронику. В «Саратовском дневнике» появляются его политические фельетоны, зарисовки из жизни крестьянства, росте социальных бунтов и протестов в его среде. Симбирский библиограф Н.Н. Столов в своей справке составил список, включающий двадцать пять изданий, в которых публиковался Михаил Премиров.
В 1906–1914 гг. писатель жил попеременно в Петербурге, Юрьеве, Казани и Симбирске. В 1909 году в Петербурге вышла его первая книга «Немые дали», посвящённая жизни городских низов. В 1917-м в Москве увидела свет новая книга писателя – «Кабак», объединившая рассказы из жизни сельских священников, отличавшиеся трогательностью образов, сочным, ярким языком, пасторальностью. Есть в ней и рассказы с мрачным колоритом.
Викентий Вересаев в письме к автору отметил: «рассказы из духовного быта ярки, талантливы и искренни. Если бы все такие…» Иван Бунин оставил отзыв: «Кабак» Премирова. Несомненно талант». Положительно отзывался о творчестве Премирова Иван Шмелёв.
В 1914–1925 годах наш земляк, завершивший образование в Казанском университете, жил в Орске, служил преподавателем в реальном училище и женской гимназии. В 1923-м году в журнале «Сибирские огни» писатель опубликовал драму «Всадник на вороном коне» и роман «Счастливый остров», в которых обрисовал падение нравов в России, голод, рост преступности и безбожия. Критики обвинили Премирова в «сплошной андреевщине».
В 1925–1935 годах Михаил Премиров проживал в Ульяновске, проработав год в школе второй ступени, вышел на пенсию по состоянию здоровья. За десять лет он создал многочисленные произведения разных жанров, не принятые к публикации. В их числе драмы «Пол», «Преступление доктора Черепанова», «Церковь святого дьявола», роман «Злая крепость».
В 1928 году Премиров направил в издательство «Земля и фабрика» фантастическую повесть «Женщина с утренней звезды» и получил характерную отповедь: «…как литературное произведение – социально безграмотно… Как фантастика заслуживает некоторого интереса жизнь венериан, их научные достижения и т.п. Кстати, не довольно ли писать о монахах и попах. Старо…».
На протяжении нескольких десятилетий М.Л. Премиров был участником литературных проектов, собраний, акций. Например, ему было предложено стать соавтором сборника произведений писателей симбирян «Отзвуки», в котором наряду со Скитальцем, Ал. Толстым, Н. Гладковым, должны были принять участие М. Ананьев, Безродный, Изгнанник. Писатель прислал «Красный Яр» и малые рассказы.
В октябре 1934-го М. Премиров опубликовал в ульяновской газете «Пролетарский путь» едкую сатиру на развал дисциплины в местных колхозах. Обвинить его после этого в «очернении» колхозного строя не стоило труда.
Герои небольшого рассказа – юные селькоры Алёшка, Ваня Кандауров, Сенька Паншин и Феклуша Диких – решили выпустить критический номер стенгазеты «За ударную работу». У них получился раёшник – рифмованные прибаутки, актуальные и в наши дни:
А, ну-ка, колхозник, кругом
Себя глянь:
Кое-где не вывелась
в колхозе дрянь.
Есть у нас лжеударники.
Слов нагородят с гору,
А как до дела дойдут –
На работу едва ли пойдут.
Почему партсовещание хромает?
Кто за эту работу отвечает?
Наши культурники
тоже отстали.
Во время уборки
книжки читать перестали.
В стане на всякий лад слышен
Отборный мат.
Клуб на запоре, читальня тоже.
На что это похоже…
Судьба отца и сына Премировых после ареста остаётся неизвестной. Обширное наследие писателя ждёт своего исследователя и публикатора.
Сергей Петров
Из детства
 Рассказ
Рассказ
Я ещё далеко не старик, но, несмотря на это, всегда с большим удовольствием и искренним чувством останавливаюсь на воспоминаниях моего раннего детства. Сколько там было свежести, теплоты и святой, чистой любви!
И когда я погружаюсь в эти отрадные воспоминания о моём детстве, всегда из далёкого прошлого выступает в моей памяти образ нашего приходского священника, ещё нестарого, с добрым, чрезвычайно симпатичным лицом и глазами, устремлёнными на меня (из-за очков) с любовью и лаской.
Уже после, когда я стал сознательно относиться к жизни, т.е. когда я вырос и развился, я понял, как я любил его, любившего меня и всех вообще детей. Мне почему-то с особенной яркостью вспоминается одна всенощная на страстной неделе в четверг. Я любил эту службу и всегда охотно посещал её, причём мне чрезвычайно нравилось стоять с горящей свечой в руках и слушать Евангелие, а потом тушить свечу и опять зажигать.
Я стоял обыкновенно в алтаре, в уголке, и наблюдал за действиями служащего священника. Церковь у нас была маленькая, деревянная и старинная: голые, потемневшие стены, тусклый со старыми образами иконостас, представлявшийся мне в то далёкое время верхом роскоши и блеска.
С нетерпением дожидался я звона церковного колокола, призывавшего народ православный к любимой мною службе. Ещё задолго до её начала одевался я в новую рубашечку, спрашивал у матери пятачок на свечу и сидел где-нибудь в тёмном углу в религиозно-торжественном настроении. А там, за тонкой перегородкой, собирались богомольцы (мать моя была просвирней и обитала в церковном доме) и тихонько калякали, ожидая, как и я, звона ко Всенощной.
Но вот в тишине вечера раздавался первый удар большого праздничного колокола, казавшийся мне таким мощным, густым, – раздавался удар, и я проворно крестился три раза, торопливо одевался и бежал к близко стоявшей от дома церкви. Забравшись в уголок алтаря, я стоял, и слушал, и смотрел, что делает священник.
Живо представляю я и теперь этого человека; вижу его кротко-спокойное, обрамлённое тёмными волосами и небольшой такого же цвета бородой, лицо; вижу его неторопливые, истовые движения; слышу тихий, но ясный и приятный голос, с таким чувством и проникновенностью произносивший святые слова Евангелия.
В алтаре полумрак. Стоишь и смотришь на трепетно озаряемую восковыми свечами икону Спасителя за престолом, и кажется, будто Он так нежно, с такою любовью глядит на меня, и сердце наполняется каким-то неясным чувством благоговения и детски-сыновней любви ко Христу. Я часто сравнивал эту икону с лицом нашего батюшки и находил между ними значительное сходство: такие же волнистые тёмные волосы, такая же короткая, чуть-чуть раздвоенная бородка и та же печать чистой любви на лице. Только очки портили дело, и я постоянно негодовал на этот прибор и удивлялся, зачем батюшка носит его.
Я особенно любил слушать пение тропаря «Егда славний», и хотя певцы наши, во главе с псаломщиком-стариком, не отличались приятными голосами и большим искусством, однако эта песнь, исполняемая ими, слушалась мною с большим удовольствием и искренним чувством.
Но вот дождался я и чтения евангелий. Пора и свечу зажигать. Я подхожу к недалеко от меня висящей лампадке и зажигаю свою пятачную, из белого воска, с узкой золотой полоской, свечу. Слышно, как шевелится в церкви народ; проходит минута, и в алтарь сквозь открытые царские двери проникает яркая полоса света от сотни зажжённых свечей, – проникает и ложится на престол, на фигуру священника, склонённого над Евангелием и читающего святые слова. Широкая полоса света не разгоняет совсем около стен и в углах царящего в алтаре сумрака, который ещё усиливается от равномерно разлитого в воздухе кадильного дыма, и в этом таинственном полусвете тихо колеблется окаймлённое радужным кругом пламя свечки в руках священника. Я смотрю на эту яркую точку, смотрю не мигая до тех пор, пока наконец вижу только её, а всё окружающее покрывается в моих глазах полнейшим мраком; мне это нравится, и, стараясь не мигать, я смотрю и слушаю Евангелие.
В храме тихо; лишь звучит мягкий голос священника, негромко, но ясно и благоговейно-любовно произносящего прощальную речь Иисуса, полную нежно-отеческой любви к ученикам: «Чадца, ещё с вами мало есмь: взыщете Мене…».
Многого не понимаю я в словах Евангелия, но внимательно слушаю чтение и своей детски-незлобивой, ещё чистой душой чую заключающуюся в этих Божественных словах всю полноту святой бесконечной любви. И моё маленькое сердце размягчается, и мне так отрадно и хочется плакать... В промежутки между чтениями Евангелия полумрак в алтаре становится гуще; его усиливают клубы кадильного дыма, и мне нравится эта мягко освещённая обстановка святого места, нравятся благоговейно-спокойные действия священника, его тихая, неслышная походка. Я смотрю на него и любуюсь и слушаю пение священных песней.
На клиросе набралось порядочное число певцов-любителей, но над всеми разнообразными голосами их возвышается высокий приятный тенор церковного старосты. Он очень любит духовное пение, часто становится на клирос, и его ещё молодой светлый голос согласно сливается с слабым и старым, дребезжащим голосом псаломщика. Теперь староста особенно в ударе: с чувством поёт он умилительные песни церковные, и разливается, и плачет его голос...
«Какой у него хороший голос, – думаю я: – если б у меня был такой...»
Обладание таким голосом кажется мне высшим счастьем.
«И добрый какой он, продолжаю я думать: – как угощает, когда приходишь к нему, а на Рождество и на Пасху деньги дарит. Наверное, и теперь на Пасху подарит что-нибудь. Прошлый год какое красивое яичко подарил он мне: сахарное, со стёклышком; поглядишь туда, – Ангел стоит в белых прозрачных облаках. Мама говорит, что они сделаны из ваты... А на Рождество двугривенный подарил новенький, блестящий; он и теперь у меня хранится... Да! Он добрый, и батюшка добрый; он ещё добрей старосты, потому что он священник... Книжки мне даёт читать... А какая это хорошая книжка «Горячие уголья»; мне очень понравилась, и я всегда так буду делать, как в этой книжке рассказывается: «платить за зло добром; добро жжет обидчика, как горячие угли»...
И я думаю, и забывшись, не зажигаю своей свечи, а яркая волна света врывается в алтарь и прерывает течение дум моих. Я торопливо зажигаю свечу и, прислонившись спиной к табуретке, на которой положено верхнее платье священника, стою и слушаю евангельское повествование.
«Тогда убо Пилат поят Иисуса, и би Его. И воини, сплетше венец от терния, возложиша Ему на главу, и в ризу багряну облекоша Его, и глаголаху: радуйся, царю иудейский! И бияху Его по ланитома...» – читает священник.
Слушаю я, устремив глаза на ярко освещённый теперь лик Спасителя, и представляется мне поляна в лесу, где я часто играл в летние дни, – цветущая, благоухающая, вся заросшая кустами шиповника, озаренная мягко-розовым светом скрывающегося за деревьями солнца. И здесь, под развесистым дубом, который я так люблю, стоит Христос, страдающий, измученный, окружённый врагами, с терновым венцом на главе. И мне так жаль Его и так хочется разогнать, уничтожить эту толпу злых мучителей, окружающих Его, смеющихся над ним, злорадствующих...
Я смотрю на кротко-страдающее лицо Спасителя, и вдруг узнаю в Нём нашего батюшку.
«Да, это он! Как это я не узнал его раньше?.. И как смеют они мучить его?.. Да, и одежда его – коричневая новая ряса, и венок из шиповника на голове, надетый злодеями... За что они мучают его?»...
А кругом так спокойно, так мирно догорает летний вечер; трещат кузнечики, тихо шелестят листья осины...
Грубый смех святотатственно заглушает тихие звуки засыпающей природы и раздаётся звонкий звук пощёчины.
Я дрожу от негодования и жалости; с замирающим сердцем смотрю я на оскорблённого батюшку, опустившего на грудь свою голову, украшенную колючими цветами и каплями крови, как цветами.
Снова поднимается рука мучителя на его склонённую голову... Я не выдерживаю; вся кровь зажигается во мне; стремительно, с диким криком и плачем, бросаюсь я в толпу воинов, бью, толкаю, топчу, падаю сам, на меня наступают, топчут...
– Встань, ты спас меня; они ушли... Пойдём отсюда! – звучит надо мной чей-то ласковый голос, и нежная рука поднимает меня и куда-то ведёт. Я прихожу в себя и вижу батюшку в той же одежде, в том же багровом венке из колючих цветов и с каплями крови на бледном лице.
– Батюшка, они ушли? – спрашиваю я.
– Ушли, милый, – говорит он, – но они опять придут и опять будут мучить меня, потому что так надо... Да ты не плачь, – утешает меня батюшка, заметив, как дрожит мой подбородок, и глаза наполняются слезами: – ты не плачь, ведь это так надо...
Нежно-любовно звучит его тихий голос, глаза успокаивающе смотрят на меня, и рука чуть слышно гладит мою голову.
Мы уже прошли цветущую поляну и вступили на узкую тропинку в самую чащу леса. Здесь гораздо темнее; свет уже готового скрыться за горизонтом солнца не проникает сквозь плотную стену стволов, и только узкий просвет ещё яркого неба несколько освещает нам путь.
– Батюшка! Куда мы идём?.. Батюшка! Не ходи страдать, не ходи к ним, – они убьют тебя; не ходи, не страдай!.. – умоляю я его и с тоской смотрю ему в глаза.
– Нельзя, милый! Мне нужно пострадать... Ведь ты ещё не понимаешь: ты ещё дитя. Вот вырастешь, будешь большим, тогда всё поймёшь, – поймёшь, что мне необходимо пострадать за людей, пострадать за тебя, за всех, умереть одному, чтоб не умерли все.
Моё сердце сжимается от жалости, от сознания своего бессилия, и слёзы обильно, но тихо, без спазм льются на землю.
– Батюшка, – тоскливо умоляю я, – батюшка!..
А кругом тишина; чёрная ночь, безмолвная, тайная и страшная, своей загадочностью уже наполнила лес.
– Батюшка, не ходи! Не страдай!..
А нежная рука тихо водит по моим волосам, и чуть слышный страдальческий вздох раздаётся в молчаливом воздухе и замирает бесследно... Опять тишина, и мнится, будто навеки уснула, умерла природа, возмущённая злом человека...
Мне страшно смотреть и ничего не видеть в этой мёртвой тьме леса, и я закрываю глаза и, вздрагивая всем телом, прижимаюсь к ногам батюшки.
– Батюшка, не ходи! – в отчаянье и ужасе восклицаю я. – Мне страшно; не ходи к этим злым фарисеям!
Он останавливается, обнимает меня и ласкает свободной рукой.
– Ну, чего ты боишься, мой маленький-маленький? – с невыразимой нежностью говорит он. - Чего ты боишься? а? Ведь я с тобой, дитя! Я – Христос, тот Христос, что так любил детей маленьких, таких же, как ты... Я, сам Христос, с тобою!..
Мне вдруг делается так легко, спокойно и сладко-приятно: я уже не боюсь, с доверием и детски-безграничной любовью я прижимаюсь к Нему и целую ласкающую руку.
– Лёля, Лёля! Вставай! Ах как ты заспался; вставай; вставай, уж и всенощная кончилась! – звучит надо мной ласково-укоризненный голос, и чья-то рука мягко тормошит меня, треплет.
Я вздрагиваю, полуоткрываю глаза и в кротком полусвете вижу склонённого надо мной батюшку в той же коричневой рясе, но на челе его уже нет колючего венка из цветов.
– Проснулся; ну вот и хорошо; пойдём-ка, давно уж пора.
– Не ходи, батюшка! Они убьют, убьют тебя; не ходи к ним!.. – молю я и плачу тихо, беззвучно.
– Что ты, Лёля? Христос с тобою! Или сон какой видел? А? ну проснись! Видишь – мы в церкви: нужно идти домой; служба уж кончилась, – говорит батюшка и тихо приподнимает меня и ставит на ноги.
Я смотрю и не могу понять, что со мною. В алтаре сумрак. Одинокая свеча горит на аналое, тускло освещая тёмные стены его.
«Где я? Как я здесь очутился? Ведь в лесу был сейчас, и со мной был Христос... Христос», – думаю я и осматриваюсь: на ковре под ногами лежит обгорелая потухшая свеча, за спиной табуретка с верхней одеждой священника.
«Да ведь я спал, – мелькнуло у меня в голове, – прислонился к табуретке и заснул; да, да! И сон видел... Так это был сон, только сон...»
– Ну что, опомнился, а? – спрашивает меня батюшка. – Вот как ты заспался! Устал, видно, и заснул; да, устал? Ах ты, мой мальчик!.. Ну, пойдём теперь домой; мама давно уж, чай, ждёт тебя. Пойдём; давно пора.
Я молча одеваюсь и выхожу вместе с батюшкой из церкви.
– Не упади, теперь скользко; дай руку, – говорит батюшка.
Мне не хочется говорить. Я ещё не совсем освободился от грёз, ещё не опомнился совершенно после странного сна. А на душе легко. Звёздное небо тихо раскинулось над спящей землёю; в воздухе освежительно-прохладно, и святая весенняя ночь наполнена воспоминаниями великих и страшных событий.
«Не сон ли это ещё? – думается мне; – ведь так же я шёл куда-то с батюшкой, так же держал он мою руку и так же время от времени задумчиво и нежно водил по моим волосам свободной рукой».
– А долго я спал? – спрашиваю я с целью убедиться, реально ли я живу сейчас, или ещё сплю, и сон продолжается.
– Да, видно, порядочно-таки поспал. Я увидал, что ты спишь уже перед пятым чтением Евангелия. И свечечка твоя лежит на полу, а сам ты совсем сполз на пол и спал сидя. Устал, видно, ты? А? устал, Леля?
– Нет, батюшка, я и не заметил, как заснул; всё слушал, слушал, да и заснул вдруг. А сон какой я видел, батюшка! Будто тебя били фарисеи, надели венок из шиповника, и будто ты – Христос. А мне жаль тебя стало, я заступился за тебя, а потом мы куда-то пошли с тобой лесом по дорожке, а уже ночь, темно... Страшно как мне было. Я всё просил тебя не ходить к ним страдать, а ты говорил, что это нужно.
Батюшка слушает меня и тихо ласкает и улыбается.
– Так ты и видел, будто я Христос? – спрашивает он.
– Да, да! Потом ты сам сказал, что ты Христос...
Батюшка задумчиво молчит.
Но вот я уж и дома. Мама встречает нас и осведомляется, где я так долго пропадал. Батюшка объясняет маме, в чём дело, и, поцеловавши меня и благословивши, уходит домой.
Мне уже приготовлена постелька. Быстро раздевшись, я бросаюсь в неё, и мне приятно лежать близ мамы и думать про сон, и хочется снова увидеть Христа. Теперь я уже не тот, что был в детстве. Жизнь – борьба своей грязью и тьмою заглушила во мне то светлое, чистое и святое, что только присуще детскому возрасту, и чего нет уже в нас, взрослых, больших людях. Нет уже во мне той чистоты мысли, хотя ещё и неразвитой, той бескорыстной, нежной любви неиспорченного детского сердца, которую так высоко ценил Христос, когда говорил: если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное (Ме. 18, 3).
И горько становится на сердце от сознания того, что ты испорченный человек, – горько и жаль своего детства, своей непорочности и любви... Братья! Будемте, как дети!
Михаил Премиров
"Мономах", №4, 2010 г.
Масленица в ульяновских парках: опубликована подробная программа
События, 22.2.2026Юрий Полянсков о благотворителях УлГУ. Глава первая: «Юрий Самсонов: Объединиться ради общего блага»
Герои, 27.12.1929Честь мундира, блеск и бриллианты: в Ульяновск из Москвы привезли уникальные «Драгоценные ордена»
События, 21.2.2026