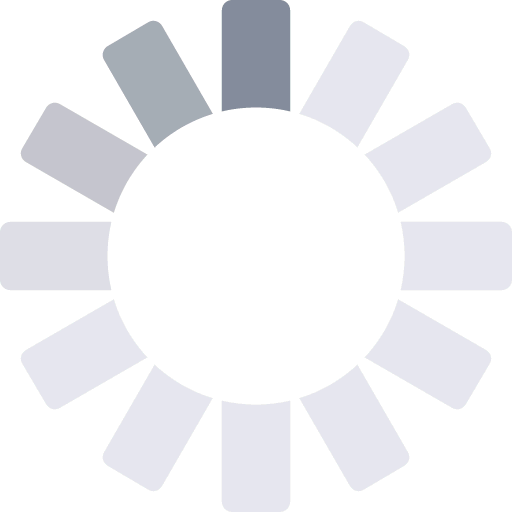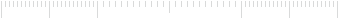– Мать у меня, она 1905 года рождения, была почти неграмотная: с трудом читала, с трудом писала. Она была из крепкой крестьянской семьи (пять человек детей, корова, лошадь, куры, свиньи). Жили они в Саратовской области, под Хвалынском.
Во время коллективизации всё хозяйство у них отобрали как у кулаков. Хотя какие они кулаки? Просто жили большой семьёй и много работали.
Всё у них отобрали и услали в Сибирь, за Иркутск. Дедушка быстро умер, а бабушка потом переезжала из одной семьи своих детей в другую (в том числе и мы её целый год держали). Была очень набожная, часто молилась, я, маленький, за ней подглядывал, а она сердилась на это.
Мамины сёстры так в Сибири и прожили, а мамин брат работал в подмосковной Малаховке, дачном месте наших министров и членов правительства. Дядя был экскаваторщиком, грузил на станции уголь для Москвы и жил с женой в длинном бараке, в одной тесной комнате, в ужасной бедности. Я потом, после армии, к ним приезжал смотреть Москву, с удовольствием ходил дачными переулками, с любопытством заглядывал через заборы правительственных дач (местные жители знали, где какой министр живёт). А потом возвращался к дяде в барак.
Я тогда уже был диктором на областном радио, мою работу дядя не понимал, считал, что мы все болтуны и бездельники. Жена его работала на железной дороге, укладывала шпалы. Мужа иначе как чёртом не звала.
И вот однажды я был у них в гостях, и мы вместе слушали по радио спектакль «Анна Каренина» с Аллой Тарасовой в главной роли. Они заинтересовались, внимательно слушали, ситуация житейская: муж, любовник… Потом дядя меня спрашивает: «А где эта Анна Каренина похоронена?» Я говорю: «Да это художественное произведение, Анна – вымышленное лицо». – «Да как это? Значит это всё враньё что ли?»
Пытался им ещё что-то объяснить, но тут же снова узнал, кто я и что у меня за профессия. А дядя с тётей были очень разочарованы.
Но это я отвлёкся…
Матери моей повезло – когда раскулачивали и ссылали её семью, она уже была замужем, жила в Хвалынске. Замуж она вышла за вдовца с ребёнком.
Мой отец торговал мукой, у него был хороший каменный дом и прямо при нём – небольшое «заведение», лавка. Он ездил на Волгу, брал муку прямо с судов и торговал в Хвалынске.
Насчёт того, по любви или не по любви вышла моя мать за отца, сказать не могу, мама никогда со мной об этом не говорила (не было принято о таком с детьми говорить). Но всё-таки троих детей они родили.
Потом советская власть добралась и до отца. У него тоже всё отобрали, в доме устроили детский сад, а самого с женой и ребёнком сослали куда-то на Урал. (Уже в 70-е годы мать всё порывалась съездить в Хвалынск и меня с собой приглашала, но мы так и не собрались).
На Урале отец нигде не мог устроиться, его никуда не брали, хотя он мог работать, например, бухгалтером. Потом они каким-то образом перебрались в Ульяновск. Сняли комнату в домике на улице Воробьёва. В 1930 году у них родилась дочь (моя сестра), в 1935-м родился я, а в 1936-м – мой брат. В семье стало четверо детей.
Дочь отца от первого брака (звали её Нина) жила с нами и после смерти отца. Очень хорошая была девчонка, она нас, по сути, вырастила. Мать работала, Нина возилась с нами. А потом так случилось, что кормить всех стало невозможно, и она сама ушла в детский дом.
Первое время она к нам приезжала в гости, а потом пропала. Где она, как у неё сложилась судьба, где похоронена – ничего я не знаю.
Мы жили очень бедно, голодали и часто с родителями ходили в так называемую обжорку, столовую в Голубковском переулке (где сейчас завод «Контактор»). Там в большом чану варили похлёбку из костей, очищенных от мяса, больше туда ничего не добавляли, и этот бульон стоил очень дёшево.
Особенно везло тому, кому попадала мозговая кость – тут же начинали выбивать мозг о дно металлической миски или в ложку.
Отца и в Ульяновске никуда не принимали на работу, он был лишенцем, поражённым в правах. Но был очень шебутным, предприимчивым человеком. У него была ножная швейная машина «Зингер». (До сих пор она стоит у сестры). И отец стал зарабатывать тем, что покупал старые мужские костюмы, перелицовывал их, красил и продавал.
А потом… я уж тебе, Гена, всю правду расскажу… Отца как спекулянта забрали, посадили в тюрьму, и в заключении он умер. В последнем письме он писал: «Очень болят ноги, тяжело ходить…» Потом письма прекратились и даже сообщения никакого о его смерти не было. Где умер, в какой тюрьме, где похоронен…
А ведь он просто хотел накормить свою семью.
Об отце у меня ничего не сохранилось в памяти. Когда его арестовали, мне было года два. Сохранилась его единственная фотография, всматриваюсь в неё сейчас и никаких чувств не испытываю – как чужой человек.
В Ульяновске до войны очень тяжело было устроиться на работу. Самое хлебное место был хлебозавод. Бойня работала (мясокомбинат) – туда все стремились. Заводов я даже не помню – только один патронный был.
После смерти отца мать сначала работала уборщицей в школе, все деньги отдавала хозяйке за квартиру. Я постоянно болел, чаще всего с горлом, поэтому всю жизнь у меня слабый голос. И даже на радио потом – дикция-то была, а голос так и остался слабым.
Потом матери повезло, она устроилась уборщицей в детский сад – номер 16 на улице Робеспьера, он и сейчас существует. И мы с братом в этом детском саду провели всё своё детство. И тем спаслись.
А когда мать работала в школе, у нас доходило до того, что когда она уходила убираться, оставляла мне до обеда одно сырое яйцо. И помню, как только она уходила, я сразу это яйцо выпивал и даже съедал скорлупу. Сейчас выясняется, что это полезно и есть скорлупу даже рекомендуют. (Смеётся).
Детский сад был интернатного типа, там были больные дети: у кого туберкулёз, у кого ещё что-то. Они жили там постоянно и только на субботу-воскресенье разъезжались по домам. (Курировал этот детсад приборостроительный завод, сейчас это «Утёс», а тогда назывался «Завод № 280»). Дети работников завода тоже туда ходили – тогда ведь не разбирались – можно здоровым детям контактировать с больными или нельзя.
Кормили в детском саду хорошо. Я не сказал бы, что все были сыты и довольны. Но кормили и детей берегли: каждое утро давали по ложке рыбьего жира. В 42-м году я пошёл в школу, но всё равно после уроков шёл в детский сад. Так до вечера там время и проводил.
Как это ни странно, но я не помню момент начала войны: ни первого объявления, ни выступлений Молотова и Сталина. Такая вот особенность моей памяти.
В детсаду было две группы, одна – девчонок, другая – мальчишек. Воспитание было раздельное.
У мальчишек была большая комната, разделённая надвое: здесь – кроватки, а во второй половине дети играли. Мы страшно любили лазить под кроватями, играли в шпионов. А как затопят печку, собираемся все у неё. И тоже сидели с керосиновой лампой – электричество было, но его часто отключали.
На втором этаже была специальная комната, где мыли детей. И каждый родитель должен был принести мыло. Где он это мыло брал, откуда доставал, – это было дело родителей. Мыло было в страшном дефиците. В основном, приносили мыло жидкое, в банках, их ставили рядком на скамейке. Мы любили в эту комнату пробираться и пальцем в это мыло тыкать.
Пластилина не было, но была глина. Дети лепили из глины. Были музыкальные занятия, вела их Кирочка, она была уже женщиной, муж был на фронте, но все её звали Кирочкой – и взрослые, и дети. Очень симпатичная и хрупкая женщина.
Пианино стояло в зале, она играла и разучивала с детьми песни.
На новогодней ёлке меня нарядили Петрушкой. Дали колокольчик, я вбегал в зал и должен был вокруг ёлки несколько раз обежать и: «Дили-дили-динь, пришёл Петрушка…» Мне 80 лет, а я помню, как я бегал тогда вокруг ёлки…
А как мы ждали новогодних подарков! Был зал, а следующая комната – через дверь – обычная. Вот эту дверь закрывали… Женщина с грубым голосом у нас была Дедом Морозом, палочка у неё была, она этой палкой стучала: «Сейчас появится волшебный сундук! Раз! Два! Три!» И… (какое таинство было!) из другой комнаты выталкивали сундук. А в сундуке – подарки!
В пакетике – простые конфеты сосательные и обязательно яблоко. Зимой – яблоко! (Откуда их привозили?). И мы ещё мерялись с друзьями: у тебя побольше, у меня поменьше.
Мама сначала работала уборщицей, а потом повариха взяла её помощницей. Отопление было печное, надо было топить на кухне плиту. Мать ходила за дровами, топила, мыла кастрюли. И пока она всё это сделает, мы с братом её ждём, а идём домой почти уже ночью.
Всё моё раннее детство прошло на улице Воробьёва. И хоть всем во время войны жилось тяжело, но мы были самые нищие. Потому что у всех всё-таки были крошечные, но свои домики. А мы как приезжие и ссыльные… (Тяжело вздыхает).
По домам ходили специальные женщины, проверяли, какие у вас лампочки. Большие лампы вкручивать было нельзя. Мать нам всегда наказывала, чтобы мы никому не открывали дверь. Но я ещё был маленький – взял и открыл. Она вошла – а у нас большая лампа горит (потому что маленькая совсем ничего не освещала).
И, наверное, эта женщина нас всё же пожалела. Потому что видит: нищета полная, никаких вещей, мебели, сидит заморыш с завязанным горлом… И она не составила протокол. А вообще за это штрафовали.
Розеток вообще не было, да в них и вставлять было нечего. Утюги были исключительно угольные. Потом уже, после войны, когда появился газ, стали нагревать утюги на газу.
Да и гладили бельё, в основном, не потому, что надо было что-то отгладить или навести стрелки, а от педикулёза. Всех мучили вши (и в детском саду, и дома) и клопы. Клопы мучили ужасно. Никаких химикатов не было, поэтому боролись с ними кипятком и морозом. Мать из чайника поливала места, где они могли скапливаться. А зимой постельное и одежду выносили на мороз. Правда, это не очень помогало. Клопы не погибали, а впадали в анабиоз, становились совсем плоскими и почти прозрачными. А в тепле снова оживали и продолжали кусаться.
…Шли с матерью из детского сада уже затемно. Особенно было страшно весной, потому что всё заливало и были ужасные лужи. Никаких резиновых сапог, конечно, не было. И вот проходим однажды мимо танкового училища, останавливаемся у огромной лужи и вдруг, совершенно неожиданно, подошёл курсант, взял меня на руки и через эту лужу перенёс.
Какое было событие! Меня солдат перенёс! Я всем во дворе рассказывал. Прямо через лужу! Сапоги так – бух, бух, бух – по луже… Осталось в памяти на всю жизнь.
Ребят своих с улицы по имени я сейчас и не вспомню, но у всех были клички, и они в памяти остались. Был, например, Пупсик, маленького роста парень. Сестру его с раскосыми глазами звали Зенка (и никто Нинкой её не называл!). Рыжего парня звали Пожар. Ещё был Купол – голова очень большая была. С Колькой я дружил, у него была кличка Страус, за длинные ноги. Спросят: «Куда пошёл?» – «К Страусу».
А у меня кличка была Шпион, потому что я был очень молчаливый и тихий.
Улица Воробьёва круто спускается к Свияге. Там был деревянный мост, мы там купались. Трусы в камыши спрячешь или в песок зароешь и голый купаешься. А не спрячешь – украдут, потом до дому не дойдёшь. (А ходили всё лето в одних трусах).
Народу тогда было мало. Свияга, а на том берегу – до самого горизонта – сплошные огороды. На обед мы не ходили, да дома и есть нечего было. На огороды проберёшься, морковки надерёшь, в Свияге помоешь – и ешь.
На руках и ногах были цыпки, сейчас этого слова вообще в обиходе нет, а для нас это было обычное дело.
Стригли нас в парикмахерских, там были ручные машинки, по-моему, немецкие. Стригли, конечно, коротко.
Со спиртзавода спускали в Свиягу по канаве отработанную горячую воду, мы очень любили там купаться. Интересно было наблюдать, как на спиртзавод на коровах (сзади бочка) люди ездили за бардой. Бардой кормили скотину.
Самые почётные люди на нашей улице – это были шофёры. Их было очень мало. Познакомиться с шофёром была большая удача. Потому что шофёр привезёт дрова. Дрова были на вес золота. Уже с лета начинали собирать щепки, чтобы было чем обогреваться зимой.
Ужасное было время. Мы несколько раз всей семьёй угорали чуть не до смерти. Потому что надо было сохранить тепло, трубу старались закрыть пораньше. На нашей улице были случаи – погибали целыми семьями.
За водой ходили далеко к колонке.
Когда по улице Воробьёва проезжала машина, мы все выбегали на дорогу – смотреть. Настолько это было редким событием. В основном, это были грузовики-полуторки, а то ещё и не бензиновые, а газогенераторные – мы их называли «самоварами». Едет грузовик, а возле кабины – как самовар – такая печка. В неё подбрасывали деревянные чурки, они горели, и машина ехала.
И вдруг пронеслось по городу – вот там-то стоит американский «Студебеккер». Побежали и в самом деле – стоит эта машина. (Какая машина! Как она оказалась в Ульяновске?). Потом вышел из дома гордый шофёр, сел и поехал.
Потом по городу разошёлся слух, что водителю «Студебеккера» полагается кожаное пальто, кожаные перчатки и кожаная фуражка. И якобы шофёрам этого ничего не давали, а эту форму носили первые секретари обкома. (Смеётся).
Каждый от нужды спасался по-своему. Кто валенки валял где-нибудь в сарае. (Все ходили в валенках, в школу тоже, и никакой второй обуви). Когда покупали новые валенки, их не протаптывали, а сразу несли к какому-то мастеру, чтобы он пришил подмётки. Подшитые валенки дольше служили.
У некоторых девчонок были белые валенки. Это было что-то… А если у кого-то появлялись бурки – это считалось верхом шика и благополучия.
Лучше всех жили закройщики и портные. Они всё время были с работой. В магазинах было пусто, кто побогаче, мог что-то купить в комиссионке в Столбах. (В других магазинах там в войну и сразу после практически ничего не было).
Когда я пришёл работать на радио, мне нужна была хотя бы белая рубашка. И ты представляешь, Ген, белую рубашку нельзя было найти. Сестра уже тогда работала в ателье и её подруги, которые часто у нас бывали, сообща, в свободное время, сшили мне рубашку из парашютного шёлка.
В Столбах выбрасывали иногда костюмы, стояли большие очереди. Причём, размеры не выбирали, брали, кому какой достанется. Первый костюм я купил, когда в Столбы привезли целую партию одинаковых – зелёного цвета, из материала, которым в радиоприёмниках обтягивали динамик.
Тогда как раз нас пригласили на семинар дикторов в Казань, со Всесоюзного радио приехала диктор Кайгородова. И она очень удивилась, что мы – со всего Поволжья – приехали в зелёных костюмах. Не знаю уж, где эти костюмы шили – тогда никаких бирок не было…
А в войну портные, в основном, занимались перелицовкой (в то время это было «в моде»), подкрашивали и продавали.
Я спасался тем, что ко мне хорошо относилась заведующая детским садом. Периодически я относил сумку, набитую продуктами, на улицу Пищевиков (сейчас Гагарина). Там был двухэтажный дом, наверху жила заведующая детским садом, а внизу – её сестра. (Мне этот дом казался замком).
И вот мне доверяли такое дело. Я брал сумку с продуктами, шёл туда, звонил в звонок, у меня сумку принимали, и сестра заведующей давала мне три рубля. (Я их сразу отдавал матери).
Надо сказать, что все мои друзья потом пересидели в тюрьмах – с детства научились лазать по садам, а дальше – больше.
Наша мать очень нас в этом смысле берегла – чтобы мы не попали в такую компанию.
Помню, были американские продукты. Яичный порошок, из него делали омлет, правда, совершенно безвкусный, как и все американские продукты (про них и сейчас то же самое говорят). Ребята не любили американское сливочное масло, оно было очень солёное, видимо, боялись, что в дороге оно может испортиться.
Когда мать уходила в отпуск, мы ужасно голодали. Набирали в овраге крапивы и её варили.
Потом мать не смогла платить за квартиру, мы съехали с улицы Воробьёва и одно время жили прямо в детском саду. Крошечная была комнатушка, там я спал на столе.
Мало того, что у матери была крошечная зарплата, так её ещё отбирали, заставляли подписываться на заём. Этих облигаций был целый чемодан, так их потом и выбросили…
Детский сад нас спас. Если бы не он, мы бы не сохранились. А я бы, наверное, стал вором и бандитом. Потому что надо же было что-то есть…
Один только среди моих друзей был отличник, он после школы поступил в геологоразведочный (о, это тогда было что-то невероятное!). Но тоже жизнь сложилась трудно: где-то в экспедиции подхватил малярию, очень страдал. Вернулся в Ульяновск практически инвалидом, сильно растолстел и уже не работал. А мальчишка был очень, очень способный.
Вообще могу сказать, что мать растила нас без всякого воспитания. Оставалась простой крестьянкой, работала с утра до вечера, делала всё, чтобы мы физически выжили. Ни о какой духовной жизни речь, конечно, не шла. А уж когда я пошёл в школу, она тем более не вмешивалась – образования у неё практически никакого не было.
***
Полностью воспоминания Бориса Трутнева можно почитать по ссылкам:
Борис Трутнев 1935 г.р. Воспоминания о жизни в Ульяновске до войны, во время и после. Часть 1
Борис Трутнев 1935 г.р. Воспоминания о жизни в Ульяновске до войны, во время и после. Часть 2
Борис Трутнев 1935 г.р. Воспоминания о жизни в Ульяновске до войны, во время и после. Часть 3
***
Источник: Антология жизни. Геннадий Дёмочкин "Девчонки и мальчишки" Семеро из детей войны. Ульяновск, 2016 г.
Геннадий Демочкин "Девчонки и мальчишки". К читателю
***
Борис Васильевич Трутнев. Всю жизнь отдал Ульяновскому областному радио, где с 1960 по 1995 годы работал диктором. Награждён медалями «За трудовую доблесть», медалью к 100-летию Ленина и «Ветеран труда». Вместе с супругой Ольгой Андреевной воспитали двоих дочерей, имеют троих внуков.
Генеральный спонсор 
Сбербанк выступил генеральным спонсором проекта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на сайте "Годы и люди". Цель этого проекта – сохранить память о далеких событиях в воспоминаниях живых свидетелей военных и послевоенных лет; вспомнить с благодарностью тех людей, на чьи плечи легли тяготы тяжелейшего труда, тех, кто ценою своей жизни принёс мир, тех, кто приближал Победу не только с оружием в руках: о наших самоотверженных соотечественниках и земляках.
От Большой Саратовской до Гончарова. Из истории центральной улицы Симбирска-Ульяновска
Места, 1.1.1941