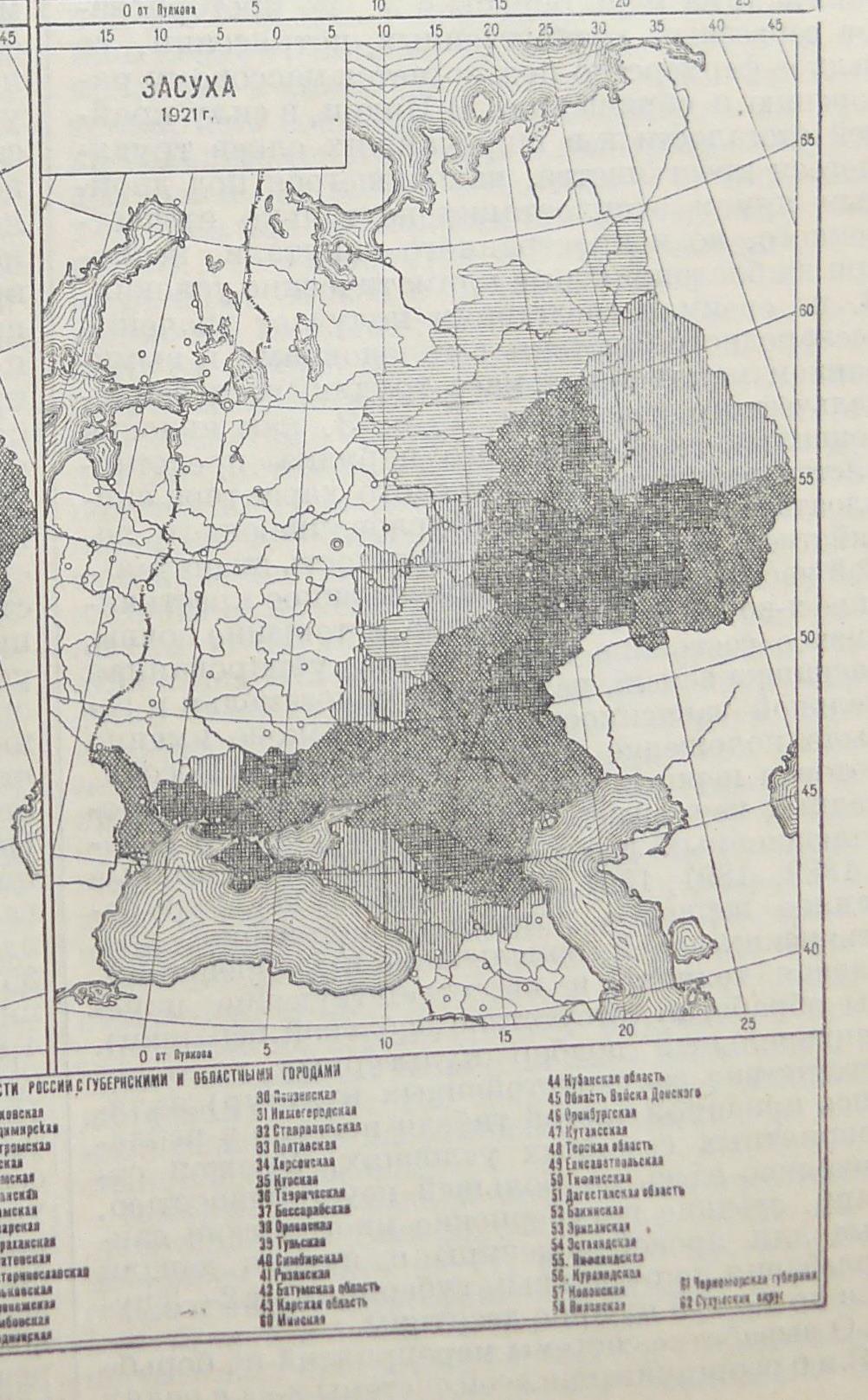
(Продолжение статьи Владимира Миронова)
Все части:
Владимир Миронов. Голод. Часть 1. На пути к катастрофе
Владимир Миронов. Голод. Часть 2. Военный поход на рынок
Владимир Миронов. Голод. Часть 3. «Сначала съедим лошадей, а потом – комиссаров»
Владимир Миронов. Голод. Часть 4. Тучи над городом встали
Владимир Миронов. Голод. Часть 5. Не ходил бы ты, сынок, во солдаты…
Владимир Миронов. Голод. Часть 6. Битва за хлеб
Владимир Миронов. Голод. Часть 7. Продналог вместо разверстки
Владимир Миронов. Голод. Часть 8. Битва за хлеб. Продолжение
Владимир Миронов. Голод. Часть 10. ПОМГОЛ
Владимир Миронов. Голод. Часть 11. Неделя длиною в месяц
Владимир Миронов. Голод. Часть 12. Дороже золота
Владимир Миронов. Голод. Часть 13 (заключительная). Заграница нам поможет
Часть 9. «Везде и всюду одно только пьянство и взяточничество местной власти»
Слова, вынесенные в заголовок, взяты не из кулацкой антисоветской листовки, а из доклада уполномоченному Симгубчека тов. Ярмоц его неизвестного, к сожалению, коллеги, посетившего Ардатовский уезд в июне 1921 года.
«При объезде данного мне уезда для постановки работы, что же я вижу? – Пишет чекист, и сам же отвечает, – что такая работа не может быть продуктивной, а именно почему везде и всюду идет только одно пьянство и взяточничество местной власти. А больше всего наши товарищи коммунисты, стоящие у власти, не стремятся улучшать общественной жизни Советской власти, а наоборот, стараются проделывать грязные делишки. Везде только слышишь со стороны граждан, что, что делают товарищи коммунисты, вот что значит в их руках власть. Что хотят, то и делают, правду станешь говорить, они только пугают арестом и т.д. Но как же должен смотреть крестьянин в лицо всей местной власти, когда они не стараются улучшить жизнь бедняка, а наоборот, задавить бедняка? Я вижу, что в волостных советах сидят не бедняки, а кулаки, которые хотят всецело подорвать наш авторитет советской власти… Бандитизм с каждым днем все больше и больше развивается, происходят грабеж и убийства ежедневно».
Но, может быть, ардатовцам просто не повезло? Может быть, в других уездах все было по-другому? Посмотрим.
«Довожу до вашего сведения, – докладывал начальнику осведомительного отделения губЧК 22 августа того же года другой чекист, – что при посещении мною Сельдинской вол., наблюдается следующее: настроение граждан данной волости в связи с ожиданием озимых семян, хорошее. Стараются поднять весь пар, что в некоторых селах уже сделано». Казалось бы, и слава Богу. Хоть где-то дела обстоят неплохо. Увы.
«Крестьяне так беспокоятся в виду долгого неполучения обещанных семян. Со стороны местной власти полное бездействие, сельсоветы совершенно не работают, ссылаясь на голод. Пред. волисполкома т. Щукиным с подобным явлением ведется энергичная борьба, но в виду того, что отдел управления уезда не обращает на это никакого внимания, бездеятельность сельсоветов еще более разрастается… Отдел управления уездом не обращает внимания на доклады т. Щукина, а также на лиц, не хотевших исполнять те или иные распоряжения, которые можно получить у т. Щукина…». То есть и здесь «вертикаль власти» работала, что называется, через пень-колоду: нижестоящие плевали на распоряжения стоящих выше, а те, в свою очередь не обращали внимания на бардак, творившийся «внизу». Хорошо хоть, не пьянствовали и взяток не брали.
Но и это было бы еще полбеды. Куда хуже оказалось то, что «без исключения почти все ответственные работники в полном смысле этого слова не желают сокращать свои довольно-таки привилегированные положения, как-то: занимая лучшие квартиры, в лучшем продовольственном находятся положении, благодаря тому, что имеют между собой связь, почему и рельефно заметно, как будто бы представляют особую партию, не считаясь с рядовыми работниками, – сообщал в ЧК очередной осведомитель. – Несмотря на призывы ЦК и Губкома, эти призывы видимо до них не доходят и остаются гласом вопиющего в пустыне. Все, и если не все, то многие, имеют личную прислугу, хотя об этом говорилось не раз на городских собраниях партии».
Подобное поведение ответственных товарищей, сетует автор доклада, дискредитирует советско-партийное руководство не только в глазах «обывательщины», но и среди членов партии. «От многих приходилось слышать (даже от тех, кто побывал на фронтах гражданской войны), которые сознательно заявляют, что при таких условиях нет сил работать и приходится уходить вон из Симбирска или выходить из партии», даже понимая, что такой шаг, по сути, «есть смертный политический приговор над собой».
Указывает осведомитель и на массовое воровство из различных складов государственных государственных учреждений, процветавшее, по его мнению, благодаря тому, что возглавляют таковые «если не белогвардейцы, то далеко не наши друзья».
Что же касается коммунистов, то они не только не борются с подобными явлениями, но, напротив, сплошь и рядом братаются с этими «товарищами», будучи зачастую «не прочь и на стакан чаю или что-нибудь посущественнее» к ним заглянуть. «Это тоже слишком бросается в глаза, и все обвиняют, как и должно быть, опять коммунистов», – не без горечи констатирует чекист.
В совхозах губернии тоже не все благополучно, – убежден автор донесения, – поскольку «там все еще сидят бывшие помещики в худшем случае, а их управляющие – в лучшем» и поэтому «без воровства и злоупотреблений там тем более не обходится».
В чем они проявляются? Ну, например, в том, что урожай 1920 года был учтен неправильно. В результате образовались «ничейные излишки», которые совхозное начальство прибрало к рукам и куда-то пристроило, вместо того, чтобы раздать рабочим совхозов. А теперь, когда случился голод, оно заявляет, что если государство не даст рабочим хлеба, то последние разбегутся, а это самое начальство за судьбу совхозов всякую ответственность с себя слагает.
Именно так случилось, например, в Стоговской группе Сенгилеевского узда, куда Губсовхоз (губернское управления советскими хозяйствами, образованное в 1919 году) завез за зиму несколько сот пудов пшеничной муки и пшена, предназначенных для сотрудников правления. А теперь именно эти люди объявили себя голодающими.
Или вот другой случай. Еще в мае бывший председатель Губсовхоза товарищ Денин, «от нечего делать» поехал по губернии и то ли на три дня, то ли на неделю задержался в совхозе Беклемишевском, заведующий которым – бывший помещик некто Яцковский, был другом Денина, по-дружески отваливший ему фунтов 12 (около 5,5 кг) коровьего масла и пуд (16 кг) муки. Об этом неожиданном приобретении начальника по возвращении из командировки сообщил куда надо кучер Денина Перевезенцев.
Трудно сказать, что в этой ситуации больше возмутило Губземотдел и Губсовхоз –то ли антипартийный поступок председателя последнего, то ли помещичье происхождение его приятеля, но с должности решили снять именно Яцковского, заменив его проверенным партийцем. Но не тут-то было! Прибыв на место, в Карсунский Учхоз, сменщик получил от местных коммунистов от ворот поворот, поскольку, как утверждали карсунские товарищи, Яцковский не только не мог быть сменен, но напротив, они даже «хотели наградить его орденом Красного Знамени». Чем закончилась эта история, не известно.
Еще пример: в совхозе Рождественском Курмышского уезда по данным волостного посевного комитета, на 22 апреля оставалось не вывезенным 31000 снопов не измолоченного овса и около 3000 пудов – молоченного. Чтобы проверить это, посевком послал в уездное совхозное управление телеграмму с требованием срочно провести ревизию, однако никакой реакции так и не последовало.
«Это говорит опять за то, что местные органы, вместо того, чтобы вести борьбу и в зачатках уничтожать такое зло, они этому потворствуют. А раз это так, то рабочий и языка не может высунуть против заведующих или быв. помещика, ибо защиты для них нет, как будто бы ни откуда».
«Вот такие крупные, я бы сказал, выявления не могут завоевать симпатию не только среди беспартийной массы рабочих и крестьян, но разочаровывают большой процент партийных товарищей, ибо верхи немы к голосу низов. Они изнемогают под тяжестью экономических условий, а группы, засидевшиеся на креслах заведующих отделами, живут ради своих благополучий», – делал печальный вывод информатор ЧК.
Подписи под докладом нет, поскольку приведенный текст – машинописная копия. Но на обороте есть препроводительная под грифом «Весьма срочно. Совершенно секретно. Лично предгубисполкома», подписанная зав. секретным отделом Губчека и Уполномоченным № 4 Ярмоцем. То есть до высшей губернской власти этот «глас народа» дошел. Но вот был ли услышан?
Пока же власти приходилось надеяться только на военную силу: «Согласно распоряжению компродотрядами Ершова, отряд 559-го стрелкполка в 24 часа должен сняться. Ввиду массового наплыва населения в Сенгилей за хлебом на почве чего возникают волнения, которые могут отразиться в недоброжелательную сторону соввласти, сообразуясь с положением, отряд 559-го стрелкполка Упродкомом задержан впредь до снятия таковых», – телеграфировал 7 июня 1921 года Сенгилеевский уездный продкомиссар Фалеев в Симбирск. А двадцать шестого числа Симбирский губвоенком известил Президиум Губисполкома о том, что «для понуждения вывозки хлеба из ссыпных пунктов Симбирского уезда и его конвоирования выделено 8 отрядов по 50 человек, которые 8 июня приступили к работе».
В общем, битва продолжалась. В том числе и в губернском центре.
Для Симбирска введение в стране новой экономической политики обернулось весьма неожиданной стороной – на городских рынках внезапно появилось огромное количество, нет, не продовольствия, а… мебели! Этот товарный всплеск был настолько очевидным, что на него обратила свой всепроникающий взор губернская ЧК, рассмотревшая этот вопрос на заседании коллегии 26 мая 1921 года.
Выступивший с докладом начгубмилиции Поцелуев объяснил собравшимся, что продажа мебели на городской толкучке возникла потому, что буржуазия, которой с введением НЭПа стали возвращать национализированные было предприятия, как бы сейчас сказали, «малого и среднего бизнеса», почувствовала свою силу и принялась отбирать у рабочих «перераспределенную» им бывшую буржуйскую мебель, ссылаясь на то, что таковая теперь опять принадлежит им. Что делать в сложившейся ситуации милиция не знала, поскольку никаких указаний на сей счет Президиум Губисполкома не давал и на милицейские на запросы по этому поводу не отвечал.
Взявший затем слово председатель ГубЧК Крумин заявил, что спекулянтов с базара необходимо задерживать и привлекать к трудовой повинности, а мебель вернувшейся буржуазии ни в коем случае не отдавать.
Так и постановили: «признать торговлю мебелью явлением совершенно недопустимым, а также вернувшейся буржуазии никакое имущество не возвращать т.к. на основании постановления Губчека, опубликованного 25.05.19 года, оно подлежит конфискации». Жилищному отделу поручалось немедленно провести учет всей мебели, «дабы не было возможность таковую расхитить и Губкомтруду предложить привлечь спекулянтов, торгующих на рынке».
В общем, с одной проблемой разобрались, однако вторя и главная по-прежнему стояла крайне остро, потому что при всей несомненной необходимости добротного обеденного стола в квартире каждого трудящегося, куда более важным и нужным было то, что на этот стол удавалось подать. А вот тут дело обстояло куда как неважно.
Например, паек телеграфиста станции Верхняя Часовня Волго-Бугульминской железной дороги, составлявший 25 фунтов (чуть больше 11 кг) муки в месяц, с 1 июня 1921 года сократился в пять раз – до 5 фунтов или чуть больше, чем до двух килограммов. И телеграфисты 14 июня вполне предсказуемо забастовали, требуя увеличить норму и, кроме того, выдавать им по фунту хлебы ежедневно.
К работникам связи по тем же причинам в любой момент готовы были присоединиться и рабочие мастерских Патронного завода. 24 июня на работу там вышли всего 13 человек. Но и они просто сидели или на лежали верстаках и ничего не делали.
В десять часов утра 5 июля по причине отсутствия продовольствия встали железнодорожные мастерские на Верхней Часовне. А на 11 часов утра следующего дня было намечено общее собрание трудового коллектива.
К концу июня взрывоопасная «гремучая смесь» скопилась еще и на берегу Волги в районе пристаней, куда из ближних и дальних сел стекались крестьяне в надежде получить пропуск на выезд в губернии, изобилующие хлебом. В ожидании такой возможности люди неделями жили впроголодь под открытым небом. Этот импровизированный лагерь стал не только дополнительным источником социального напряжения и антисоветских настроений, но и массовых заболеваний.
«Среди низов чувствуется угнетенное состояние ввиду предстоящего неурожая хлеба», – говорилось в очередной информационной сводке ЧК.
(продолжение следует)
Все части:
Владимир Миронов. Голод. Часть 1. На пути к катастрофе
Владимир Миронов. Голод. Часть 2. Военный поход на рынок
Владимир Миронов. Голод. Часть 3. «Сначала съедим лошадей, а потом – комиссаров»
Владимир Миронов. Голод. Часть 4. Тучи над городом встали
Владимир Миронов. Голод. Часть 5. Не ходил бы ты, сынок, во солдаты…
Владимир Миронов. Голод. Часть 6. Битва за хлеб
Владимир Миронов. Голод. Часть 7. Продналог вместо разверстки
Владимир Миронов. Голод. Часть 8. Битва за хлеб. Продолжение
Владимир Миронов. Голод. Часть 10. ПОМГОЛ
Владимир Миронов. Голод. Часть 11. Неделя длиною в месяц
Владимир Миронов. Голод. Часть 12. Дороже золота
Владимир Миронов. Голод. Часть 13 (заключительная). Заграница нам поможет








