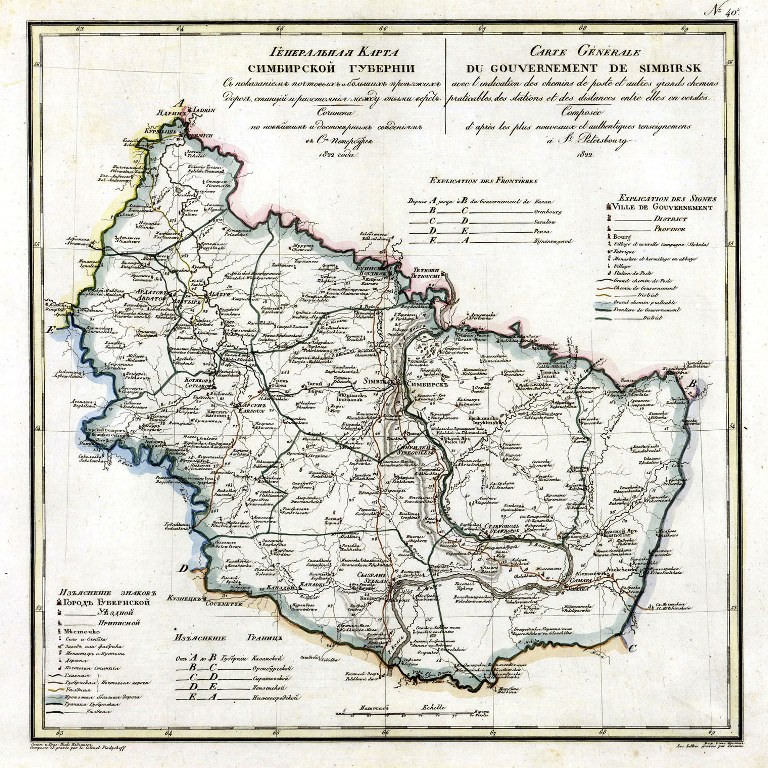
Примерно за час до полуночи 8 февраля 1929 года село Гулюшево проснулось от выстрелов. Сперва раскатисто грянул один, на который деревенские собаки тотчас отозвались пронзительным хоровым лаем, а вскоре грохнул второй. Люди, разбуженные стрельбой и собачьим гвалтом, настороженно припали к окнам со смешанным чувством страха и любопытства. Однако больше не стреляли. Дворняги нехотя угомонились и народ отправился досыпать, благо до утра было еще далеко.
Скорее всего, эта история прошла бы незамеченной и вскоре совсем забылась, если бы не представитель Окрисполкома товарищ Вихирев, который в ту ночь, как раз около одиннадцати часов вернулся домой, в Гулюшево, из Промзино (ныне – Сурского), с заседания районного избиркома, готовившего перевыборы сельских советов.
О ночной стрельбе Вихирев немедленно доложил в райисполком, а тот, расценив случившееся, как покушение на ответственного работника, сообщили о ЧП в окружной отдел ОГПУ и окружком ВКП(б).
На место происшествия немедленно выехали сотрудники уголовного розыска и проведя «комплекс оперативно-розыскных мероприятий» выяснили, что… никакого покушения не было.
Оказалось, что в ту злополучную ночь сторож, охранявший магазин Потребобщества, решил проверить исправность своей охотничьей берданки, для чего и пальнул в ночное небо, даже не подозревая, что саженях в ста (более 200 метров) от него находится не кто ни будь, а представитель Окружного комитета партии.
В общем, дело замяли, хотя пострелять, судя по всему, на Промзинщине любили. Во всяком случае, «покушение» в Гулюшево было не первым. Буквально за неделю до него – 31 января – нечто очень похожее случилось в Елховке, где неизвестные якобы покушались на члена Промзинского райисполкома Захарова. Правда, на сей раз заявлять о ЧП почему-то не стали, хотя слухи о нем настойчиво курсировали среди местных служащих. Поэтому, когда в район по каким-то своим делам приехал уполномоченный ОГПУ Галямин, то невнятная информация о якобы имевшем место теракте дошла и до него. Не плутая вокруг да около, чекист вызвал Захарова и прямо спросил, было ли покушение на самом деле? «Было», – признался член райисполкома и рассказал, что случилось таковое в Елховке, где он проживает с семьей и куда в тот вечер приехал со своим знакомым, тоже, кстати, членом ВКП(б) товарищем Сверчковым. Однако отправились они почему-то не домой к Захаровым, а пошли к некоей местной школьной работнице. Возле ее дома все и случилось. Хозяйка и гости мирно беседовали о том о сем, когда с улицы донесся какой-то подозрительный шум. И едва Захаров вышел на крыльцо, чтобы выяснить в чем дело, как ему навстречу грохнули два выстрела. К счастью, оба – мимо. Вернувшись в дом, член райисполкома сообщил о случившемся, но никаких мер ни он, ни Сверчков, ни «школьная работница» почему-то не предприняли.
Получив официальное заявление о тяжком преступлении, Галямин немедленно сообщил о нем в Окружной отдел ОГПУ. А сам отправился на место происшествия. Здесь чекист первым делом внимательно осмотрел стену дома, в том месте, где предположительно стоял в тот вечер Захаров, но никаких пулевых отметин не обнаружил. А дальнейшее расследование объяснило причину, по которой о происшествии все молчали: никакого покушения не было.
Выяснилось, что, находясь у учительницы, гости действительно услышали на улице шум. Захаров действительно вышел на крыльцо, чтобы разобраться и застал неподалеку кампанию местной молодежи, которая, громко посмеиваясь, наперебой делилась про меж себя догадками о том, чем именно занимаются в доме молодая «школьная работница» и двое нестарых еще мужиков.
Обидевшись за даму, Захаров вытащил револьвер и выстрелом в воздух разогнал кампанию. А потом сообщил, будто бы стреляли в него. Просто для форсу.
Осмотрев наган лжепотерпевшего, чекист действительно обнаружил в нем две стреляные гильзы. И владелец оружия сконфуженно признался, что еще раз он просто так стрельнул, когда они со Сверчковым ехали к учительнице в Елховку.
Так что и этот «теракт» оказался дутым.
Скорее всего, подобные вооруженные выходки партийных товарищей были не единичными, а имевшиеся у них стволы, хоть и были легальными, но доставляли чекистам немало проблем. Об этом, свидетельствует, например, отношение, направленное 11 января все того же 1929 года начальником Окротдела ОГПУ Здоровцевым в Окружную контрольную комиссию и Окружком ВКП(б).
В своем послании чекист сообщал, что официально закрепленное за членами партии оружие, остается у них на руках даже после того, как Контрольная Комиссия по тем или иным причинам исключила их из ВКП(б), не уведомив об этом ОГПУ, где эти партийные стволы стояли на учете. В результате бывшие коммунисты продолжали ходить с наганами, как ни в чем не бывало, а органы не могли таковые изъят, поскольку не знали об изменениях партийного статуса бывших товарищей.
«В целях изжития вышеизложенного, прошу Вас во всех случаях исключения из партии членов, если у них имеется оружие, об этом сообщать Окротделу ОГПУ на предмет производства изъятия оружия», – просил главный окружной чекист.
Тот есть, получается, что лишение партбилета как бы снижало ценность жизни бывшего партийца, одновременно лишавшегося и возможности в случае чего себя защитить? Конечно, могло быть и так. Но могло и по-другому.
Например, предполагалось, что исключение человека из партийный «касты», так же, как и из числа ответственных советских работников (что зачастую было одно и тоже), автоматически выводило его и из зоны повышенных рисков, каковые были своеобразной платой за привилегии и карьерные возможности. Той платой, которую многим в те годы действительно приходилось платить.
Часов около шести вечера 3 июля 1930 года в квартиру временно исполнявшего обязанности председателя Промзинского исполкома товарища Полякова ворвалась неизвестная женщина. В ее руках был кухонный нож, которым она замахнулась на хозяина. Тот, однако, не испугался и, перехватив руку нападавшей, обезоружил ее. Но незнакомка не успокоилась. Воспользовавшись заминкой, она схватила со стола другой нож и повторила попытку. Теперь на руке террористки повисла супруга Полякова. Вдвоем они скрутили неизвестную и передали подоспевшей милиции.
Выяснилось, что задержанная – дочь местного священника Флоринского, арестованного и осужденного некоторое время назад, была, что называется. не в себе. Правда, до этого случая она неоднократно покушалась только на себя: второго июня, например, пыталась утопиться, а потом – повеситься. Но ни то, ни другое не удалось. Но лишь после нападения на Полякова, ОГПУ направило женщину «в Карколонию на испытание».
Не успели чекисты разобраться с этим покушением, как грянуло новое. На сей раз в Карсунском районе, в деревне Карпатах. Здесь 15 июля была застрелена девятнадцатилетняя колхозница колхоза «Малый ручей» Варвара Ксенофонтовна Ермошкина. Однако и об этом преступлении, как и ранее о стрельбе в Елховке, сельские власти никуда официально не заявили. В районе о происшедшем узнали случайно только спустя неделю и сразу же нам место выехали Нарследователь и сотрудник уголовного розыска. На этот раз тревога, к сожалению, была не ложной. Убийцей же оказался четырнадцатилетний односельчанин погибшей Антон Самохвалов, якобы нечаянно застреливший девушку из охотничьего дробовика. Но члены оперативно-следственной группы в случайность не поверили, хотя, на первый взгляд, семья подозреваемого с классовой точки зрения была вполне нормальной: глава – Александр Самохвалов – бедняк, прежде батрачил. Как и все члены семейства, неграмотный. Читать-писать умел только старший сын – комсомолец, недавно вернувшийся в село из города, где работал на заводе маляром-сезонником и даже состоял в Осодмиле (обществе содействия милиции).
И тем не менее, несмотря на все эти формально классово безупречные характеристики, отец убийцы слыл ярым подкулачником – во время раскулачивания он прятал у себя хлеб кулака Гендерова, который, впрочем, хозяину потом не вернул. Кроме того, Самохвалов-старший приходился родственником другому кулаку – Пелагеину, сбежавшему из села во время раскулачивания. А до этого активно участвовавшему в тайных сходках местных богатеев, выступавших против сплошной коллективизации.
По мнению следствия, именно отец подбил Антона на расправу с молодой колхозницей, заказанную ему местным кулачеством. Исходя из этого, расследованию был придан «ударный тем по признакам террористического акта, направленного против колхозников, дабы тем самым разложить колхоз», а Самохвалова–старшего арестовали, хотя, по мнению самого же следователя, «достаточных данных для предания его суду пока недостаточно». А, значит, у него имелись все шансы быть оправданным и вернуться к семье.
Источники:
ГАНИ УО Ф. 3, оп. 1. Д. 358. Л. 1, 7,8.
ГАНИ УО Ф. 3, оп. 1. Д. 359. Л. 6.
ГАНИ УО Ф. 3, оп. 1. Д. 751. Л. 23, 27.
Владимир Миронов
«Моя семья хранит память…»: вышла вторая часть книги, посвященной Гостомельскому десанту!
Герои, 6.2.2026Жорес Трофимов. Воспоминания. «Почему у меня такое странное имя – Жорес?»
Воспоминания, 15.8.192431 декабря 1978 года в Ульяновске из-за морозов произошла крупная коммунальная авария
Воспоминания, 31.12.1979







