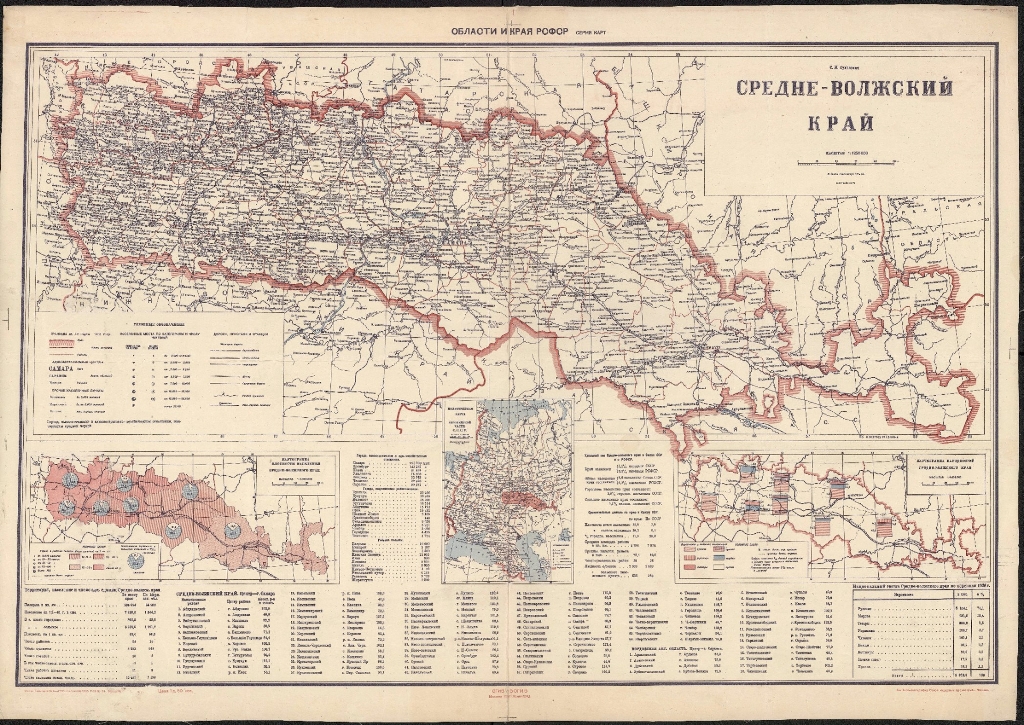
Колхоз – дело добровольное… Часть 1. Вывихи, перегибы и искривления
Колхоз – дело добровольное… Часть 2. Пора в путь-дорогу
Колхоз – дело добровольное… Часть 3. «Мы в колхоз не пойдем, без него проживем»
Колхоз – дело добровольное… Часть 4. «Красный петух»
В предпоследний день февраля 1930 года Ульяновский окружной прокурор докладывал прокурору Средневолжского Края о том, как вверенный надзорный орган исправляет «перегибы и недогибы», допущенные во время январско-февральской кампании по раскулачиванию.
В докладе особо подчеркивалось, что сама идея проверки этой деятельности на местах, инициированная Бюро Ульяновского окружкома ВКП(б), встретила категорические возражения со стороны некоторых коммунистов, считавших недопустимым поручать исправление ошибок, допущенных районными и сельскими партийными организациями, не партийному, а советскому органу, каковым являлась прокуратура. Возражавшие полагали, что при изучении действий местных товарищей на пиве раскулачивания, прокуроры станут оценивать их не с партийной точки зрения, а с позиции законности или незаконности таковых. И во втором случае привлекать виновных к ответственности. Такой подход, по мнению противников «постороннего» вмешательства, ничем хорошим не закончится и приведет к поголовному наказанию фактически всего сельского партийного актива.
Тем не менее, несмотря на вполне реальную угрозу лишиться значительного количества членов окружной парторганизации, Бюро от своей инициативы не отказалось и 8 февраля 1930 года помощники окружного прокурора разъехались во все районы сроком на две недели каждый.
Колхоз – дело добровольное…
Проходивший в декабре 1927 года XV съезд ВКП(б) объявил курс СССР на коллективизацию сельского хозяйства, то есть объединение мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные коллективные, сокращенно – колхозы. Однако поначалу этот процесс шел, что называется, ни шатко, ни валко, пока его не подстегнул лично товарищ Сталин, опубликовав 7 ноября 1929 года в «Правде» статью под названием «Год Великого перелома». В ней прямо говорилось о том, что в течение ближайшего года стране необходимо сделать стремительный рывок «от отсталого индивидуального империалистического хозяйства» к передовому коллективному. А кулачество, сопротивлявшееся этому обновлению советской деревни, подлежало ликвидации, как класс.
Спустя два месяца – 5 января 1930 года вышло постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству». В числе последних предусматривалось создание особых, как бы сейчас сказали, пилотных регионов, которыми стали Северный Кавказ и Поволжье. Здесь реформирование сельского хозяйства должно было идти, что называется, опережающими темпами и завершиться повсеместным созданием колхозов к весне 1931 года. То есть на все про все отводился один год.
Одновременно начался процесс раскулачивания, то есть той самой ликвидации класса сельской буржуазии – кулаков, хотя каких-либо четких критериев того, кто из крестьян подпадает под это определение не было. Если не считать приложения к упомянутому выше Постановлению, в соответствии с которым кулаки делились на три категории.
К первой относился «контрреволюционный актив» – люди, активно противодействовавшие созданию колхозов, скрывавшиеся с постоянного места жительства и переходившие на нелегальное положение.
Ко второй причислялись наиболее богатые и авторитетные крестьяне, составлявшие оплот антисоветского актива. Все остальные, более или менее зажиточные, входили в третью.
Главы семей, отнесенных к первой и второй группам, подлежали аресту, а их «дела» передавались на рассмотрение спецтроек в составе представителей ОГПУ, обкомов (крайкомов) и прокуратуры.
Раскулаченные второй категории и семьи кулаков из первой, направлялись в отдаленные районы сраны на спецпоселение (или трудпоселение) в так называемую «кулацкую ссылку».
Отнесенные к третьей категории, как правило переселялись внутри области или края, то есть на спецпоселение они не направлялись.
Отсутствие в этом деле четких критериев открывало широчайший простор для «массового народного творчества», позволявшего причислять к кулакам и контрреволюционерам любого более или менее зажиточного односельчанина, что называется, на глазок, исходя из собственного понимания зажиточности и контрреволюционности, исходя исключительно из классового чутья, пролетарского самосознания, личной приязни или неприязни и так далее. В результате очень скоро процесс стал приобретать все более хаотичные и все менее управляемый характер.
2 марта 1930 года в «Правде» под заголовком «Головокружение от успехов» появилась новая статья Сталина, в которой он, признавая перовые достижения, напоминал неким «ретивым ррреволюционерам» о том, что колхозное строительство должно быть абсолютно добровольным, а насаждение колхозов силой «глупо и реакционно. Такая «политика» одним ударом развенчала бы идею коллективизации. <…> Чтобы выправить линию нашей работы в области колхозного строительства, надо положить конец этим настроениям», – призывал Иосиф Виссарионович.
Изучив статью, Окружком и решил направить прокуроров по селам «исправлять изгибы и отдельные вывихи в работе по раскулачиванию».
«Изгибы и вывихи».
Как и следовало ожидать, набралось их немало. Так, «Гр-н с. Ждамирово Промзинского района Шишляев Семен, по профессии кузнец (имеет деревенскую кузницу, сам в ней работает вместе с женой без применения наемного труда), бедняк до революции, а в настоящее врем относится к группе середняков – имеет лишь дом и необходимые для деревенской кузницы средства кузнечного производства и, кроме того, никакого имущества не имеет.
Тот же Ждамировский ссовет при дополнительном лишении избирательных прав в январе 1930 г. лишает Шишляева избирательных прав и, как кулака, выгоняет из дома, отбирает все имущество. Поводом ко всему этому послужило то, что Шишляев в 1928 году в течение одного года держал одного ученика».
Спасло кузнеца вмешательство помощника прокурора Абмаева, который потребовал восстановить Шишляева в избирательных правах и вернуть все отобранное имущество, потому что по действовавшему на тот момент закону кустари и ремесленники имели право пользоваться наемным трудом одного рабочего или двух учеников. А крестьянам – землевладельцы разрешалось нанимать не более двух сезонных работников.
К числу подлежащих раскулачиванию ждамировский сельсовет отнес и Якова Старева, у которого было 114 пудов 20 фунтов зерна разных культур, а также лошадь, корова и восемь членов семьи. Однако, по оценке прокурора, при таком количестве едоков, никаким кулаком Старев не был, а являлся типичным середняком и раскулачивать его права не имели.
Всего же в январскую кампанию по лишению избирательных прав, таковых, по разумению местного совета, лишились главы 22 хозяйств. И как минимум половина из них, по мнению прокурора, попала под эту репрессию незаконно.
Алогичная картина была в селах Сара и Гулюшево того же района. В первом из 27 январских лишенцев, прокурор восстановил в правах 18, во втором – соответственно 29 из 36.
Это было тем более важно, что лишение избирательных прав не только влекло отлучение человека от избирательного процесса, но и служило основанием для раскулачивания, то есть конфискации всего его имущества, переходившего в собственность совета. А тот был обязан все изъятое учесть, переписать и взять на строгий учет. На практике же выходило по-другому. В том же Ждамирово прокурор обнаружил описи конфискованного имущества в совершенно хаотическом состоянии, а четыре из них вообще не нашел. Поэтому было совершенно невозможно понять, что именно, у кого конкретно и на какую сумму конфисковано. А, главное, куда все это делось.
Тоже не идеально, но все-таки намного лучше дела с учетом и контролем обстояли в Саре и Гулюшево, где все описи изъятого имущества оказались в наличии и составлены так, что в них можно было разобраться.
В селах Архангельское и Большой Кувай Астрадамовского района, в отличие от соседнего Промзинского, перегибов прочти не обнаружили. Разве что Кувае из 14 хозяев, лишенных права голоса в январскую кампанию, вернуть таковые пришлось семерым. Зато в Архангельском выявили множество искривлений в виде «недогибов», то есть «недолишения» избирательных прав тех, кто лишению таковых, несомненно, подлежал.
Много «искривлений и безобразий, допущенных в истекшую январскую кампанию», обнаружилось и в Карсунском районе, а пуще всего в Уразовке, где «перегибали» уполномоченный райисполкома Абрамов и почему-то безымянный агент Райфо при поддержке агента УРО с говорящей фамилией Арестов и опять же анонимного милиционера.
Здесь, однажды глубокой январской ночью Абрамов приказал вызвать в сельсовет середняка Юсупова, которого подозревал в том, что тот прячет у себя имущество местного кулака Булатова. Однако разбуженный среди ночи «подозреваемый», свою вину в чем-либо отрицал. Не добившись ничего «по-хорошему», уполномоченный распорядился раздеть Юсупова до гола и в таком виде отвести в «холодную». Затем допрос продолжился. Но и после «холодной» середняк упорно стоял на своем: никаких чужих вещей нет, ничего от власти не прячу, ни в чем не виноват.
Проведя в бесплодных препирательствах около получаса, уполномоченный решил перейти от слов к делу.
– Ладно, – зловеще проговорил он, недобро глядя на Юсупова, – ты сам напросился.
С этими словами Абрамов достал револьвер и поигрывая им перед лицом «арестанта», поставил на голосование вопрос… о расстреле последнего.
Присутствовавшие (во всяком случае, сотрудники милиции) таким поворотом были озадачены и попытались было убедить товарища уполномоченного не делать глупостей и не совершать преступления, каковым в данном случае и будет расценен самочинный расстрел.
– Значит, кулаков защищаете? – Не менее зловеще и угрожающе усмехнулся в ответ тот...
За расстрел проголосовали единогласно. Правда, никаких протоколов по этому вопросу не составили и отложили исполнение «приговора» на неопределенной время. А вернувшись в Карсун, Арестов и его коллега письменным рапортом доложили о ночном происшествии в местную прокуратуру. Там эту бумагу, лежавшую без движения, и обнаружила прибывшая с проверкой помощник окружного прокурора Баскина. Допросив всех участников событий, кроме самого Абрамова, который куда-то уехал, она передала материал Карсунскому следователю, чтобы тот немедленно закончил расследование и передал дело в суд.
А «приговор» Юсупову, конечно же, отменили.
«Схожая ситуация практически во всех районах и селах», – завершил свой доклад краевому начальству Ульяновский окружной прокурор.
Раскулачивание продолжалось.
Источники
ГАНИ УО Ф. 3, оп. 1 Д. 788, 2,3, 4, 5,6,7,9.10,12, 13,
Земсков В. «Сталинская эпоха. Экономика, репрессии, индустриализация 1924-1954». Москва, 2018 г. Стр. 20.
Владимир Миронов
Колхоз – дело добровольное… Часть 1. Вывихи, перегибы и искривления
Колхоз – дело добровольное… Часть 2. Пора в путь-дорогу
Колхоз – дело добровольное… Часть 3. «Мы в колхоз не пойдем, без него проживем»
Колхоз – дело добровольное… Часть 4. «Красный петух»
В Государственном архиве Ульяновской области рассказали, как симбиряне справлялись с морозами
Воспоминания, 27.1.2026







