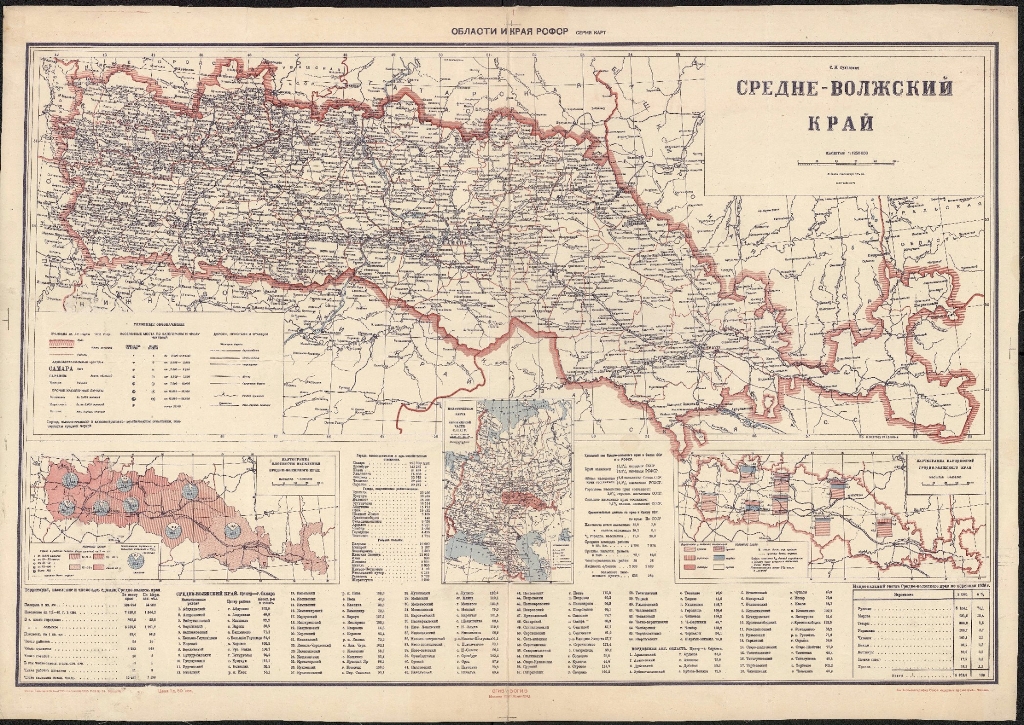
В самом начале 1932 года в Чердаклинском районе Средне-Волжского края вспыхнул коррупционный скандал. Он был настолько, как бы сейчас сказали, резонансным, что 4 января сам краевой прокурор Буздалин приказал «нейтральному» прокурору Ульяновского района Верхунову лично выехать на место, во всем разобраться и доложить о результатах не позднее 15 числа. То есть на все про все отводилось всего десять дней. Однако Верхунов уложился раньше и уже двенадцатого рапортовал начальству об итогах расследования, проведенного на месте им лично. «Некоторые документы переписки касаются Райкома и КК РКИ района», – информировал он вышестоящее руководство, в связи с чем сообщал, что отправил их в краевую прокуратуру отдельно, не подшив к основным материалам дела. К тому же один из обвиняемых по фамилии Паракшин, на момент ЧП состоял членом бюро Райкома ВКП(б), поэтому секретарь РК Михайлов, хоть и согласился отдать его под, суд, но сделал это крайне неохотно.
Так что же такого случилось в районе, что дело, выражаясь современным языком, взял на контроль сам прокурор Средне-Волжского Края?
Весь сыр-бор разгорелся из-за того, что работники Чердаклинского Отделения Крайкоопсельсоюза – упомянутый выше Паракшин Андрей Александрович и его коллеги Петр Ильич Таняшин, Александр Иванович Лосев и Федор Гаврилович Медвецкий разбазарили предназначенных для стимулирования заготовок дефицитных товаров, на общую сумму 60772 рубля 11 копеек. Среди прочего налево ушло 190 валенок, то есть 95 пар.
Уже 19 января дело чердаклинских махинаторов направили в суд, обвинив их по статье 109 УК РСФСР – в «злоупотреблении властью или служебным положением», за что виновным грозило «лишение свободы со строгой изоляцией на срок не ниже шести месяцев». Так что кооператоры легко отделались: следствие то ли не смогло, то ли не захотело разбираться в том, куда делся «разбазаренный» дефицит. Ведь, если бы удалось доказать, что его умышленно изъяли с законного рынка, а потом перепродали по повышенной цене, то вся четверка могла бы загреметь по 107 статье за спекуляцию. А там сроки куда серьезнее – реальное лишение свободы до одного года с конфискацией всего или части имущества, или без таковой. А при наличии сговора между торговцами, и того больше – до трех лет и конфискация уже всего имущества. Но, следствие почему-то решило глубоко не копать. Может быть потому, что конечными потребителями уведенных из кооператива вещей, оказались работники Райкома и районной Контрольной Комиссии Рабоче-крестьянской инспекции? Помните намек прокурора Верхунова на некие, касающиеся этих инстанций документы, которые он не приобщил к основным материалам дела, а направил начальству отдельно?
Между тем, в условиях повального дефицита, борьба со спекуляцией приобрела особенное значение. Подтверждение тому – Постановление ЦИК и Совета Народных Комиссаров СССР «О борьбе со спекуляцией» от 22 августа 1932 года. «Ввиду того, что несмотря на запрещение спекуляции, за последнее время участились случаи спекуляции, особенно спекуляции товарами массового потребления, ЦИК и СНК СССР обязывают ОГПУ, органы прокуратуры и местные органы власти принять меры к искоренению спекуляции, применяя к спекулянтам и перекупщикам заключение в концентрационный лагерь сроком от 5 до 10 лет без права применения амнистии», – говорилось в документе.
С 1 сентября по 25 октября 1932 года по Ульяновску и Ульяновскому району по статье 107 прокуратура возбудила 73 уголовных дела, по которым к ответственности был привлечен 91 обвиняемый. В том числе: пятнадцать рабочих, пятеро кулаков, тридцать восемь середняков, включая четверых колхозников, восемь бывших торговцев, семеро лиц без определенных занятий и полтора десятка, так называемых прочих, то есть тех, кто по каким-то причинам не относящихся ни к одной из перечисленных выше категорий.
Больше всего спекулировали зерном и продуктами – они фигурируют в двадцати восьми делах. В девятнадцати случаях по завышенным ценам торговали мясом, в тринадцати – молочными продуктами. Зафиксировано также по девять фактов незаконной продажи хлеба и картошки, пять – мануфактуры и семь – прочих товаров.
За тот же период – с 1 сентября по 25 октября – нарсудами города и района были рассмотрены 55 из 73 возбужденных за спекуляцию уголовных дел. По ним обвинялись 22 середняка, 9 бедняков, 12 рабочих, один служащий и 11 лиц без определенных занятий. Из пятидесяти пяти осужденных, реальные сроки лишения свободы получили восемнадцать человек (32,7%): трое – до пяти лет и пятнадцать – до двух. Тридцать четыре (62%) спекулянта были приговорены к исправительным работам от 3 месяцев до года. Один получил условное наказание и еще одного отправили в ссылку.
«Карательная политика суда по делам о спекуляции достаточно жестка», – констатировала в своих отчетах прокуратура. Применение же принудработ в отношении большого количества осужденных она объясняла тем, что преступления они совершили еще до выхода закона от 22 августа 1932 года.
Параллельно с прокуратурой, со спекуляцией боролись и чекисты, но «гребли» они несколько шире. Кроме спекулянтов, в их поле зрения попадали и те, кто хранил в торговых заведениях не клейменные изделия из золота, серебра и платины, а также сбывал таковые, то есть совершал преступления, предусмотренное ст. 106 УК РСФСР, за что полагался «штраф в размере не менее десятикратной пробирной платы за испытание и клеймение обнаруженных изделий и их конфискацию».
По этим двум статьям – 106 и 107 – за тот же период по линии Оперсектора ОГПУ было возбуждено 196 уголовных дел в отношении 130 обвиняемых. Больше всего среди них попадались торговцы – по 63 делам их проходило 53 человека. Второе место занимали представители «деклассированного элемента» – 33 обвиняемых по 46 делам. Дальше с большим отрывом шли середняки – 10 человек (в том числе 4 колхозника) обвинялись по 10-ти делам. Кулачество было представлено пятью обвиняемыми, беднота – тремя и служащие – двумя.
На 1 ноября было окончено следствием и направлено в Тройку ПП ОГПУ 30 дел и еще пять прекращены.
Какие меры наказания вынесла обвиняемым Тройка, не известно. Однако, в любом случае, они не могли выходить за пределы, обозначенные в Уголовном Кодексе и постановлении от 22 августа.
Включились в общенародное дело борьбы со спекуляцией и финансовые работники. Однако, в отличие от прокуроров, судей и чекистов, слепо следовавших нормам закона, финансисты подошли к делу творчески, исключив из процесса всякую волокиту и прочие формальности: инспектор Ципленков, агент Калинин и зав. складом Колосов просто приходили на Заволжские пристани, обыскивали пассажиров и отбирали у них продукты питания, имевшиеся в таких мизерных количествах, что любе подозрение в спекуляции таковыми просто исключалось. Например, у группы рабочих, ехавших в отпуск, бдительные финансисты конфисковали 400 граммов топленого и литр растительного масла, а также 3-4 килограмма рыбы.
Когда сведения о набегах ретивых инспекторов дошли до начальника пристани, тот, возмущенный подобной наглостью, пожаловался на финагентов в прокуратуру, и та запретила им промышлять на пристанях. Тем не менее прекращать свою сомнительную деятельность предприимчивые товарищи и не думали. Они просто переместились за ворота порта и продолжали обирать пассажиров, чем, в конце концов, и вызвали пристальный интерес со стороны органов.
В ходе расследования выяснилось, что служебное рвение блюстителей финансовой дисциплины было вызвано не только процентами со стоимости изъятых товаров, добавлявшихся к твердому жалованию, но и тем, что отобранное имущество Ципленков и кампания просто присваивали, то есть, прикрываясь мандатом, по сути грабили пассажиров. За что и получили: Калинин – год лишения свободы, а Ципленков и Колосов – принудработы. Первый – девять месяцев, второй – шесть. Однако, как, бывший красный партизан, да к тому же дважды раненый, наказание последнему снизили до 3 месяцев, то есть, на половину. И пусть кто-то скажет, что советский суд и правда – не самый гуманный суд в мире.
А непримиримая борьба со спекуляцией продолжалась еще полвека.
Источники:
ГАУО Ф. Р-1435, оп. 6, д. 10. л. 4,5,6.
ГАУО Ф. Р-1435, оп. 1, д. 96, л. 93
Владимир Миронов
От Большой Саратовской до Гончарова. Из истории центральной улицы Симбирска-Ульяновска
Места, 1.1.1941







