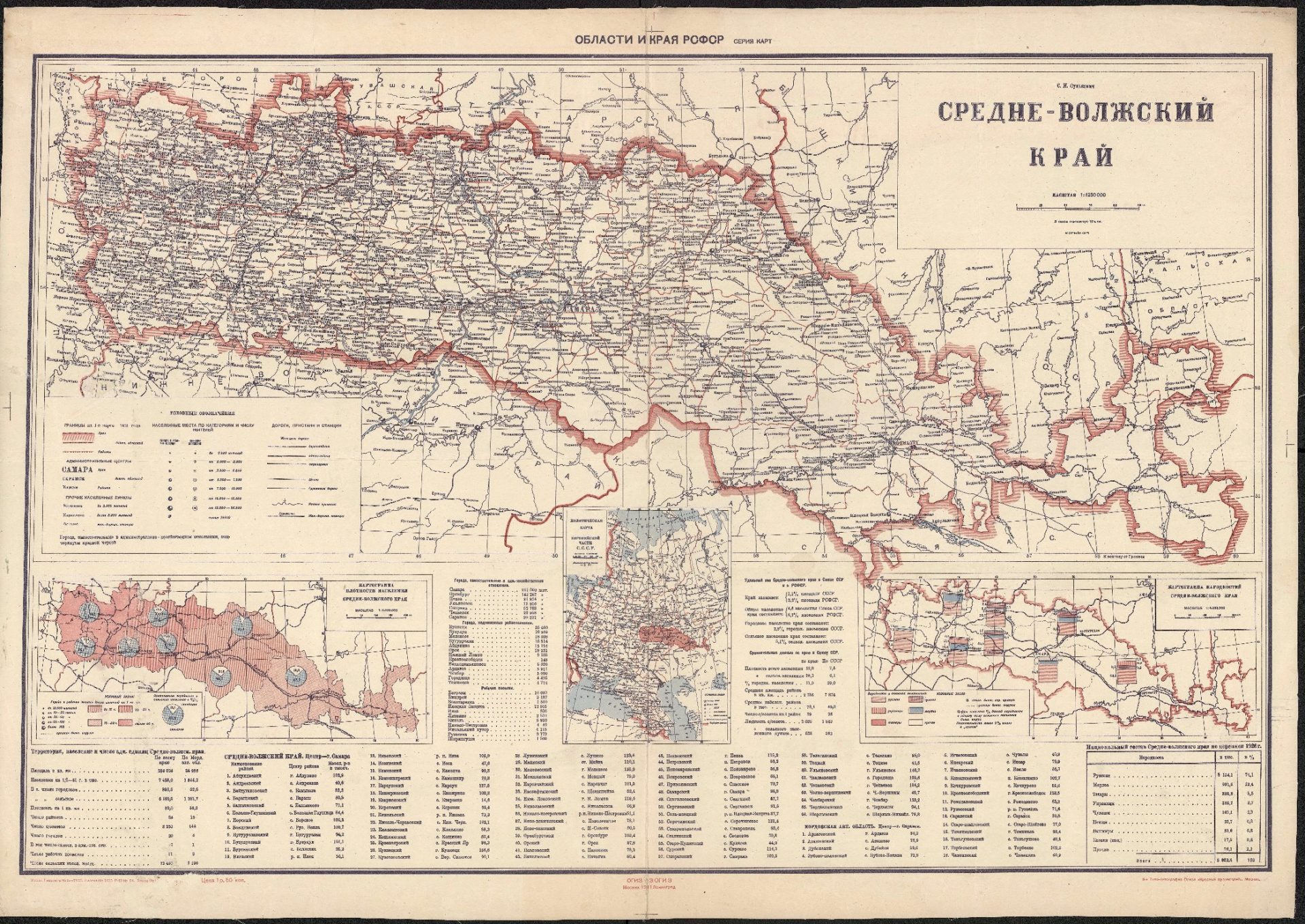
В ночь на 20 апреля 1930 года в Матвеевке Старомайнского района вспыхнул пожар, уничтоживший шесть дворов. В огне погиб и местный житель-лишенец по фамилии Городнев. Его, заподозрив в поджоге, односельчане заживо бросили в бушевавшее пламя. И хотя этот инцидент в сводках ОГПУ не значился, как существенный, тем не менее, данный факт уничтожения раскулаченным своего бывшего имущества, был далеко не единичным.
В Красном Яре Чердаклинского района в домовладение, прежде принадлежавшее местному кулаку Алексею Вавилову сельсовет вселил, якобы временно деревенского бедняка Дмитрия Гришина, до этого ютившегося с семейством в землянке. Однако понятной радости обретения настоящей крыши над головой новоселам мешала бывшая хозяйка дома. Гражданка Вавилова регулярно и непрошено являлась к Гришиным в гости и изводила бедняцкую супругу упреками в том, что если бы Гришины не вступили в колхоз, то и этого дома им было бы не видать. «Идите обратно в свою землянку. И нечего по чужим домам приживаться», – кричала она.
Но однажды вместо матери явился сын Вавилиных Иван. В отличие от родительницы вел он себя мирно и даже дружелюбно. Было это 28 апреля, когда дома, как обычно оставалась только новая хозяйка. Поговорив с ней о том, о сем, нежданный гость вдруг поинтересовался, не одолжит ли Гришина ему немного наличности. Мол, поиздержался, не выручите ли по-соседски? Озадаченная женщина ответила, что денег у них в семье отродясь не водилось. Так что и рада была бы помочь, да нечем.
– Ну, и ладно. Нет, так нет, – понимающе закивал гость и откланялся. А через несколько минут из бывшего вавилинского сарая отчетливо потянуло дымом… В тот день в селе сгорело сразу пять домов. К счастью для поджигателя раньше односельчан его нашли чекисты и всего лишь арестовали по статье 58-9 УК, каравшей за уничтожение имущества с контрреволюционной целью.
Прошло всего три дня, погорельцы еще не успели разобрать пепелища, как в ночь на 1 мая над Красным Яром вновь пронесся «красный петух», сметя своими огненными крыльями уже почти полсотни домов, включая правления колхоза и потребкооперации, а также местный очаг культуры Народный дом.
Пожар начался с бывшего дома бывши кулаков Барминых, после раскулачивания переданного некоему бедняку-колхознику, фамилия которого почему-то не указана. Ему же досталась и корова, изъятая у другого лишенца – Федотова. Прежние владельцы как движимого, так и недвижимого имущества, тоже всячески мешали колхознику в полной мере наслаждаться новой жизнью, предсказывая, что ни долго жить в чужом доме, ни пользоваться чужой коровой ему не суждено. И вот предсказания сбылись.
А Барминых, и Федотова тоже вскоре арестовали.
«Черный передел»
Кроме кулацкого имущества, изъятого у лишенцев, в пользу новообразованных колхозов перераспределялись и крестьянские земли, принадлежавшие и середнякам, и бедноте, чем, разумеется, были недовольны практически все, включая порой даже колхозников. Именно по этой причине начались массовые волнения в Новомалыклинском районе, в татарском селе Средний Сантимир. Как ни странно, но к концу мая 1930 года ни в одном из 300 дворов, здесь не было ни одного лишенца, то есть раскулаченного. Как, впрочем, и членов партии, поэтому для организации ячейки в село пришлось «бросить» четырех человек – работников округа, а бедноте раздать хлеб по увеличенной норме. Однако серьезных положительных результатов это не принесло. Разве что 37 хозяйств все же вступили в колхоз, получивший в свое распоряжение сразу семь тракторов! Тем не менее, ситуация оставалась тревожной – 26 апреля и 14 мая здесь уже случались беспорядки, по результатам которых ОГПУ «изъяло» шестерых зачинщиков. Однако относительное затишье вновь длилось недолго.
27 мая единоличникам было объявлено о том, что часть их земель отводится колхозу под пар. В ответ ранним утром следующего дня, чтобы не дать приехавшим накануне землемерам оформить землеотвод, в поле вышли около 500 человек обоего пола, вооруженных вилами и топорами. Их встретил и попытался рассеять предусмотрительно вызванный милицейский отряд в тридцать пять всадников. Завязалась потасовка, во время которой в милиционеров летели палки и камни. Кавалеристы отбивались шашками в ножнах, колотя плоской их стороной на право и налево. А наиболее агрессивным грозили револьверами. Однако, огня не открывали. Двух милиционеров толпа все же стащила с лошадей и слегка помяла, не причинив, впрочем, никому серьезного ущерба.
Ближе к девяти утра «боевые действия» завершились и народ, сложив импровизированное оружие, разошелся по домам. Внешне страсти, как будто улеглись, однако того, что они в любую минуту не вспыхнут с новой силой, никто гарантировать не мог, в том числе и местные партийцы, предлагавшие на всякий случай «изъять» человек десять. Но в итоге сошлись на четырех-пяти из числа наиболее активных участников и вдохновителей, в число коих попали четыре середняка, один из которых в прошлом уже привлекался по ст. 61 УК за «отказ от выполнения повинностей или производства работ, имеющих общегосударственное значение». Их арест поручили участковому.
Несправедливое, по мнению единоличников, перераспределение земли послужило поводом и для событий, имевших место в совхозе Бирючевский Ульяновского района, где без стрельбы уже не обошлось.
В ночь на 2 сентября загорелась солома, хранившаяся на совхозном току. Стог в двадцать тысяч пудов жарко пылал, с треском выбрасывая в небо заряды искр, озарявших округу кровавыми всполохами. Победить пожар не было никакой возможности и сбежавшимся людям оставалось только ждать, когда он, догорит.
Понимая, что сама по себе солома заняться не могла, директор совхоза приказал мужикам сесть на лошадей и объехать окрестности в поисках поджигателей. В сторону деревни Авдотьино, что в трех километрах от Бирючевки, отправился совхозный агроном Мазанов. От пожарища он успел отъехать примерно на километр, когда впереди, саженях в 35 (около 75 метров) в неровном свете зарева горевшей соломы, заметил двух человек, быстро бежавших по направлению к деревне.
– А, ну, стой! – Закричал агроном, выстрелив из нагана в след бегущим.
Неизвестные тоже ответили стрельбой, а потом, резко изменив направление, бросились к Запольному оврагу. Мазанов спрыгнул с лошади, как следует прицелился и пальнул еще трижды. Беглецы ответили, и перестрелка заглохла, поскольку у агронома кончились патроны. Вскочив на лошадь, он вернулся на пожарище и, прихватив еще двух всадников, опять помчался к оврагу. Но там уже никого не было.
К утру пожар потух. Глядя на его печальные последствия, колхозники принялись гадать, ко мог подпустить им «красного петуха». По всему выходило, что это авдотьинские. Вспомнили проходившее накануне – 31 августа – совхозное собрание, где обсуждали выселение тамошних единоличников на новый надел взамен нынешнего, переданного совхозу. Вспомнили, как те переселяться категорически отказались, и, заявив: «Стреляйте на месте, но из села не уйдем, свои земли совхозу не отдадим», демонстративно с собрания ушли. В общем, все указывало на соседей.
В русской деревне Авдотьино, лежавшей в 27 километрах от Ульяновска, в то время проживало 530 душ в 97 хозяйствах, из которых кулакам-торговцам принадлежало лишь восемь. Возможно поэтому их «изъятие» ранее не проводилось. Тем не менее, жители почти поголовно были «пораженных кулацкой антисоветской агитацией». А вот партийных и комсомольцев в Авдотьино не было. Как, впрочем, и каких-либо эксцессов вплоть до злополучной ночи.
Найти поджигателей по горячим следам так и не удалось. Поэтому для исключения подобных вредительских проявлений впредь, районный уполномоченный ОГПУ получил «задание агентурно подработать материал на предмет изъятия 4-6 чел. кулаков-торговцев».
Зеленый змий
В ночь с пятого на шестое мая в селе Ртищево-Каменка Ульяновского района кто-то проник в пожарный сарай колхоза имени газеты «Правда» и обрезал провода в двигателях двух хранившихся там колхозных тракторах, чем вывел машины из строя. Злоумышленников искали среди единоличников-лишенцев, а нашли в «Правде»: злоумышленником оказался бедняк-колхозник Миронычев. А дальше случилась незадача: будучи пойманным и изобличенным в «диверсии», член колхоза так и не смог объяснить причины своего странного поступка, сваливая все на беса, который попутал. Придя к выводу, что потусторонний «подстрекатель» был, скорее всего, в тот момент пьяным, следствие не стало «шить» ни ему, ни Миронычеву тяжелую пятьдесят восьмую, ограничившись обвинением во вредительстве с хулиганской целью.
А чуть раньше, в ночь на 21 апреля в Матвеевке того же района был ранен выстрелом в руку председатель местного потребобщества Ветлицкий. Судя по тому, что данное происшествие прошло по милицейской, а не по чекистской сводке, ОГПУ не считало его террористическим актом, полагая, что имел место некий бытовой конфликт, возможно, на почве пьянства.
Зато другой очень похожий случай чекистов заинтересовал и, что называется, позвал в дорогу. Правда, не очень далеко – в Солдатскую Ташлу.
До революции и в первые послереволюционные годы это село служило волостным центром. На октябрь 1930 года в нем насчитывалось 1207 дворов, в том числе 225 бедняцких, 938 – середняцких и всего 44 (включая духовенство) зажиточно-кулацких. Из числа последних «по линии ОГПУ по первой и второй категориям было взято около 10 хозяйств». Еще восемь семейств сами бежали неизвестно куда, и трое лишенцев все еще оставались дома. На селе имелась партийная ячейка, однако никаким авторитетом у крестьян она не пользовалась. Тем не менее, 85 хозяйств удалось объединить в колхоз.
Местную промышленность представляли сразу два завода: крахмало - терочный и лесопильный.
Общее настроение жителей села ОГПУ характеризовало, как скверное. Тем не менее, именно здесь, в Солдатской Ташле, в начале осени был сформирован один из окружных «кулацких поселков», куда выселяли раскулаченных третьей категории, то есть, не представлявших, по мнению властей, серьезной политической угрозы. Во всяком случае, до поры, до времени.
Гром, точнее, выстрел грянул поздним вечером 12 октября 1930 года. Часов около девяти в квартире, где жил директор местного лесозавода, член ВКП(б) Федор Крылов с женой, собрались гости: двое коллег с предприятия и приятель хозяина Василий Спиридонов. Сидели, разговаривали о том, о сем, может быть даже выпивали. С улицы доносился какой-то шум, пьяные выкрики, матерная брань. Но никто не обращал на это внимания, поскольку все перечисленное было явлением вполне обычным для села, в котором, по оценке чекистов, наблюдалось сильно развитое хулиганство.
Необычным стал выстрел, грохнувший под окном. Секло в раме со звоном разлетелось, а заряд дроби впился в стену и в потолок над головами сидевших за столом гостей. Женщина в испуге вскрикнула. Мужчины же, надо отдать им должное, не попадали от страха на пол, не растерялись, а выбежали на улицу, но никого у дома уже не застали. Лишь услышали быстро удалявшиеся шаги бегущего человека.
– Это наверняка Степка Коньков, – уверенно заявил Спиридонов. – Мы когда-то приятельствовали, пока он не спился. Пошли, я знаю, где его найти.
И все четверо направились к дому, в котором, по информации Василия, жила знакомая бывшего приятеля, у которой тот часто бывал. Предположение оказалось верным – Коньков действительно был у подруги. При виде вошедших он затрясся, побледнел, но даже не думал сопротивляться, когда его повели в сельсовет, хотя при обыске за голенищем у задержанного наши огромный нож.
В ожидании милиции Конькова на какое-то время оставили без пригляда, чем он немедленно воспользовался и сбежал.
Утром на место происшествия прибыли не только следователь и агент уголовного розыска, но и уполномоченный ОГПУ, поскольку в ночном происшествии просматривались признаки покушения на ответственного советского работника, к ому же – члена партии. А это уже не просто хулиганство, это – террористический акт.
Двадцатилетний Степан Иванович Коньков, происходил из середняцкой семьи, однако давно жил без родителей вмсте с двоюродным братом Федором Никитиным, который несколько раз был судим и сидел за хулиганство. Видимо, это и определило жизненный путь начинающего бандита. Все село знало, что Степка постоянно носит при себе кинжал, поэтому односельчане предпочитали с парнем не связываться. А он, пользуясь этим, не упускал случая показать свою удаль, задирая всех подряд. Так, числа примерно пятого или восьмого сентября Коньков избил возвращавшихся с собрания местных мужиков: Лысова, Чебоксарова и Лизаветина, проломив одному из них голову камнем. О случившемся было заявлено в сельсовет, однако никаких мер не последовало.
12 октября, братья, как обычно, пьянствовали, а потом отправились по селу искать приключений. Никитин, сняв рубаху, шлялся по улице полуголым пока не встретил агронома, на которого полез, было с кулаками, однако потенциальный потерпевший ухитрился как-то уболтать дебошира, и тот, пошатываясь, отправился домой и больше в тот день на людях не появлялся.
А Степан все же избил случайных прохожих – мужчину и женщину. Однако, в отличие от брата, отсыпаться не пошел, а ближе к вечеру в сопровождении приятелей –Лаптева и Тювина оказался возле дома, где жил директор лесозавода.
– Я не я буду, если если не застрелю или не зарежу гадину Крылова и дружка его Спиридонова, – пьяно грозился Коньков.
Побродив еще какое-то время вокруг директорского жилища, троица удалилась. Но ненадолго: часов около восьми или девяти приятели вернулись.
«Сукины сыны! – Пьяно кричал в закрытое окно Степка. – Нас всех разорили и ограбили! Но конец вашей жизни пришел! Сегодня я с вами расправлюсь!». А потом грохнул выстрел. Самого его момента Лаптев с Тювиным не видели, потому что стояли чуть в стороне, однако гремело как раз оттуда, куда только что отошел Коньков. Пороховой дым еще не успел рассеяться, как все разбежались.
Обо всем этом собутыльники подозреваемого чистосердечно поведали на допросах и преступление можно было считать раскрытым. Оставалось найти сбежавшего стрелка и выяснить, действовал ли он по своей хмельной воле, либо по наущению кулацкого элемента. Перетряхнув всех еще сохранившихся в селе «мироедов» и убедившись, что их связь с Коньковым не установлена, чекисты с легким сердцем передали это дело районному нарследователю и занялись другими, благо, недостатка в таковых не было.
Материалы о стрельбе в Солдатской Ташле только еще готовились к передаче в нарсуд, когда случилось новое происшествие, тоже очень напоминавшее теракт: в Кочетовке был убит член местного сельсовета, единоличник Сулов. Однако в ходе разбирательства, проведенного ОГПУ, выяснилось, что пал товарищ не от бандитской пули, а от чьего-то то ли полена, то ли увесистого кулака во время пьяной драки. Причем, вольным или невольным убийцей советского работника в любом случае был не классово чуждый буржуй-мироед, а самый, что ни на есть свой сельский пролетарий, поскольку дрались в тот вечер единоличники во главе с Суловым с одной стороны и колхозники – с другой.
По мнению политического руководства района, такое размежевание участников потасовки свидетельствовало о том, что в Кочетовке случилась не банальная деревенская драка стенка на стенку, а конфликт, имевший четкую мировоззренческую подоплеку. Именно поэтому 11 ноября 1930 года происшедшее было вынесено на обсуждение Секретариата Ульяновского райкома ВКП(б).
По мнению участников совещания, тем антагонистическим противоречием, которое стороны пытались разрешить в ходе уличной дискуссии, скорее всего, был вопрос о том, каким образом лучше вести сельское хозяйство: индивидуально, как полагали единоличники, либо коллективно, как считали колхозники. Но вот, что именно послужило поводом для возникновения означенного спора, даже чекисты выяснить не смогли, поскольку обе стороны были настолько пьяными, что все происшедшее помнили очень и очень смутно. Если вообще помнили.
Выслушав доклад начальника районного отдела ОГПУ Рогова об обстоятельствах ЧП, члены секретариата постановили передать дело в суд для рассмотрение его в общем порядке, таким образом, официально признав инцидент обычной уголовщиной. Что же касается сути конфликта, то она, по мнению районных коммунистов, заключалась в явно ненормальных взаимоотношениях, сложившихся в Кочетовке между колхозниками и единоличниками, что в итоге и вылилось в массовую драку с человеческими жертвами.
Во избежание подобного впредь, секретариат поручил сельской партячейки немедленно помирить враждовавших, установив между ними «правильные, дружеские отношения», поскольку без таковых, «не может быть обеспечен усиленный ход коллективизации».
Не обошли вниманием и сам факт «разнузданного пьянства колхозников», свидетельствовавший «о слабости культурно-политико-просветительной работы в колхозах». И потребовали все от тех же сельских партячеек «в самое ближайшее время добиться коренного улучшения этой работы», подключив к таковой Культпропа и фракцию Райколхозсоюза.
Главное, чтобы будущие «правильные, дружеские отношения» и неминуемую победу культуры над пьянством не вздумали «обмывать».
Источники:
ГАНИ УО. Ф. 3, оп. 1. Д. 787. Л. 69, 78, 86, 89.
ГАНИ УО Ф. 13, оп. 1. Д. 955 л. 35, 61,62.
ГАУО Ф. Р-1435, оп. 4. Д. 3. Л. 196.
Владимир Миронов
Колхоз – дело добровольное… Часть 1. Вывихи, перегибы и искривления
Колхоз – дело добровольное… Часть 2. Пора в путь-дорогуКолхоз – дело добровольное…
Часть 3. «Мы в колхоз не пойдем, без него проживем»
«Благов. Земной путь большого поэта». Геннадий Дёмочкин рассказал о том, как готовил книгу о поэте
Воспоминания, 20.1.202621 января 1924 года умер Ленин. Дворец книги показал газеты того времени
События, 21.1.1924Номер «Ульяновской правды» с Указом об образовании Ульяновской области
События, 19.1.1943







