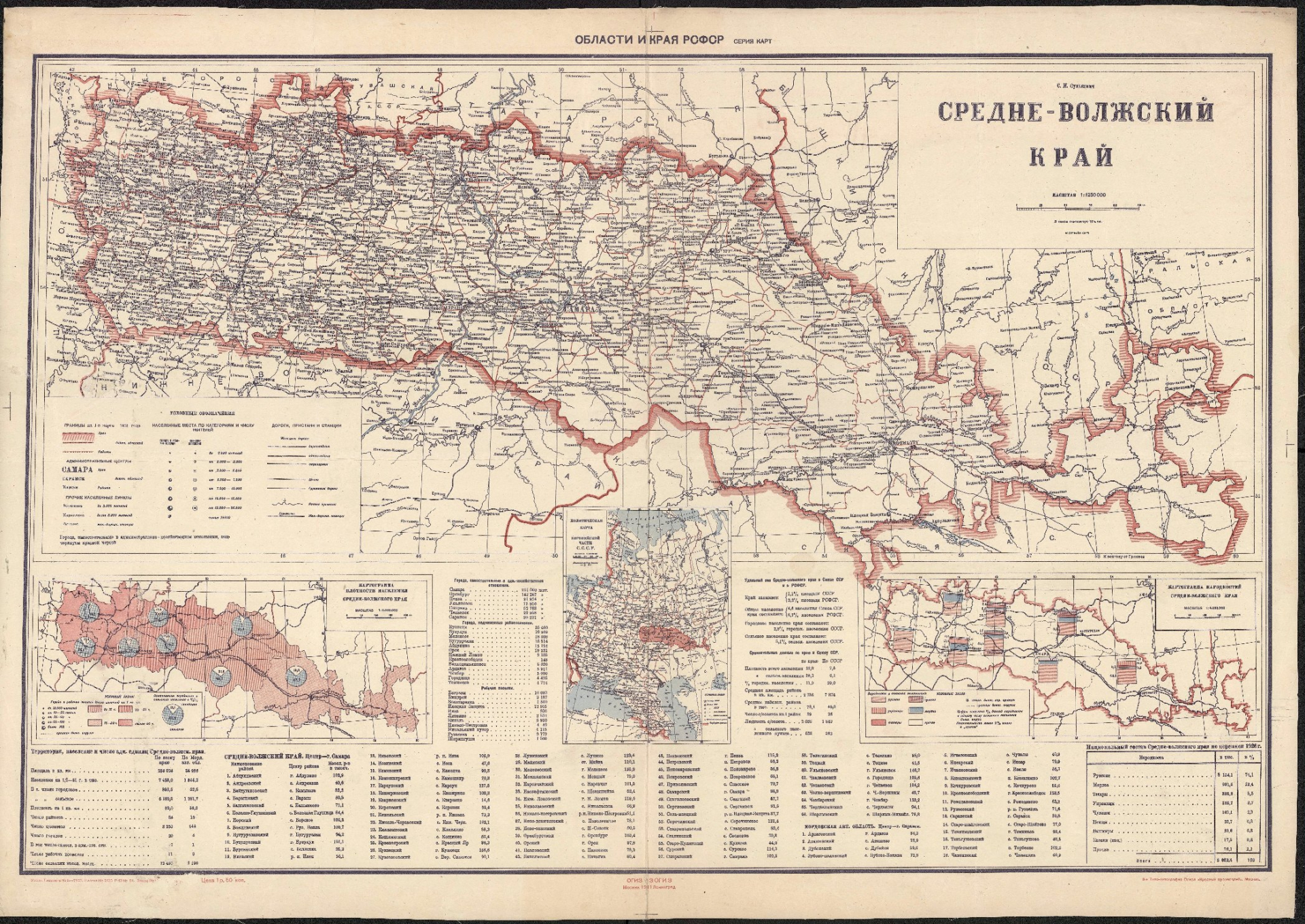
Колхоз – дело добровольное… Часть 1. Вывихи, перегибы и искривления
Колхоз – дело добровольное… Часть 2. Пора в путь-дорогу
Колхоз – дело добровольное… Часть 3. «Мы в колхоз не пойдем, без него проживем»
Колхоз – дело добровольное… Часть 4. «Красный петух»
Волнения в Мокрой Бугурне начались днем 19 июля 1930 года, когда колхозные мужики принялись разбирать забор вокруг одного из четырех домов, раньше принадлежавших кулакам. Бывших владельцев во время раскулачивания выслали за пределы округа, их чад и домочадцев выселили из домов, а сами постройки передали колхозу. Три «освободившихся» таким образом добротных строения отвели под расселение бедноты, а в четвертом разместилось колхозное правление. Вот его забор и стали ломать, чтобы использовать доски для ремонта колхозной мельницы. Эта обыденная сугубо хозяйственная операция и стала той искрой, из которой совершенно неожиданно разгорелось пламя народного бунта.
Скрип отдираемых досок привлек внимание нескольких женщин. Собравшись вокруг места работ, они принялись громко стыдит рабочих, выговаривая им за то, что те ломают не ими построенное. На гвалт прибежали товарки, включая тех, кто еще недавно жил в злополучных домах, и очень скоро женское скопище приобрело угрожающие размеры.
– Это не ваше имущество, и нечего его ломать! Вот пусть колхоз сперва сам что-нибудь построит, а потом и ломает!», – неслось из толпы. Неожиданно оказавшись под этим крикливым напором, мужики, разбиравшие забор, побросали топоры и разбежались по добру по здорову.
А бабы, воодушевленные быстрой и легкой победой, развивали успех, буквально на руках внося мыкавшихся по родне бывших хозяек в их родные сены. Первым от новоселов очистили правление, а потом и остальные избы. Возник стихийный митинг, на котором ораторши требовали «восстановить всех кулаков и вернуть отобранное у них имущество», потому что «кулак нам помогал, с кулаком жилось лучше, у нас не было кулаков! Были труженики! А их раскулачили и сослали!» исключительно новоявленные колхозники и ячейка ВКП(б).
Чтобы восстановить справедливость, женщины требовали собрать общее собрание. Но местные товарищи делать этого не собирались, и тогда бунтовщицы взяли дело в свои руки: следующим утром церковный колокол ударил в набат и народ хлынул на площадь. Однако члены сельсовета категорически отказались как-либо официально оформлять сборище и его «резолюции», чем еще больше озлобили односельчан.
Для улаживания конфликта на следующий день, 21 числа, в село выехал представитель Окружкома партии Кузнецов в сопровождении двух коммунистов-агитаторов. Прибыв на место, они провели сначала совместное заседание ячеек ВКП(б) и комсомола, а потом, отдельно – пленум сельсовета с активом колхозников. И там, и там выясняли причины волнений и устанавливали их зачинщиков, каковыми сочли двоих местных жителей.
В ночь с 21 на 22 июля «подозреваемых» арестовали, усадили на подводу и под конвоем из милиционера и колхозника отправили в Ульяновск. Однако секретная акция провалилась: подвода не успела даже выехать из села, когда ее окружила толпа, в которой на сей раз были не только женщины. Арестантов освободили, а их место фактически заняли конвоиры, которых с криками: «Грабят! Пожар!», плотная толпа всей своей массой повлекла к церкви. А над селом уже грозно гудел набат, собирая народ на площадь перед храмом, по соседству с которым находился и сельсовет, где в это время ночевали приехавшие из Ульяновска агитаторы во главе с товарищем Кузнецовым. Их вызвали на крыльцо и, осыпая угрозами немедленно растерзать, стали требовать следствия не проводить и никого не арестовывать.
Несмотря на очевидную смертельную опасность, приезжие не только сумели сохранить присутствие духа, но и ухитрились успокоить взвинченную толпу, убедив ее разойтись, чтобы утром обсудить создавшееся положение на общем собрании.
На него пришли больше 500 человек обоего подла. Кузнецов сделал доклад «о текущем моменте» и противозаконных действиях толпы, после чего начались жаркие прения, где главными участницами опять оказались женщины. Мужики же, прячась за их спинами, тихонько и будто бы незаметно подсказывали, что и как следует говорить. Колхозники на собрании тоже были, но на всякий случай помалкивали. Поэтому практически все выступления сводились к требованиям восстановить кулаков в избирательных правах и вернуть им имущество.
«Кулаков у нас нет, – утверждали ораторши. – У нас не кулаки, а труженики и пастухи. Они нам давали хлеб взаймы, а колхоз не дает! И раскулачивали их только колхозники, ячейка ВКП(б) да сопляки - молодежь! А у людей не спросили!».
Припоминались и другие обиды, например, на кооперацию, которую, по мнению многих, следовало разогнать, потому что сахар и табак она отпускала только колхозникам. «Но мы в колхоз все равно не пойдем, потому что как-нибудь проживем и без него!» – решительно заявляли единоличницы. Заодно потребовали разогнать и сельсовет, обиравший крестьян. Причем, заступалась за кулаков и наиболее рьяно костерила сельскую власть, в первую очередь беднота, что, по мнению приезжих товарищей, говорило за то, что она находится под полным влиянием кулаческого элемента.
В отличие от вчерашнего стихийного митинга на площади, это собрание было официальным, поэтому велся и его официальный протокол, в котором в итоге записали: «Оставить вселение кулаков в дома, переданные колхозам, и нести ответственность всей массой». И то, и другое противоречило не только «политике партии», но и уголовному законодательству, предусматривавшему не коллективную, а исключительно личную ответственность гражданина за правонарушение. Поэтому представители окружкома заявили решительный протест и потребовали у членов сельсовета своими правами принятое решение отменить.
Однако, местная советская власть, как и местные колхозники, предпочитала помалкивать. Причем не только на собрании, но и во время «бабьих бунтов». В лучшем случае ее представители оставались сторонними наблюдателями, в худшем же потихоньку советовали бунтовщицам, как тем следует поступать в той или иной ситуации. Ну, а куда, скажите, было деваться, если активными участницами волнений оказались сельсоветовские жены?
Не лучше показали себя и сельские партийцы: все три дня, что длились беспорядки, члены ячейки были тише воды, ниже травы, даже не помышляя о том, чтобы обсудить ситуацию хотя бы между собой, не говоря уж о какой-то разъяснительной работе среди бедноты и колхозников с тем, чтобы попытаться склонить тех и других на свою сторону.
По итогам опасной командировки, Кузнецов составил подробный отчет об увиденном и сделанном, снабдив его своими рекомендациями на будущее.
Перво-наперво он предложил уволить мокробугурнинских активистов – секретаря партячейки и председателя сельсовета «за бездействие и непринятие достаточных мер к недопущению женских беспорядков». Затем в село, по его мнению, следовало направить (причем, на длительный срок) группу политработников, преимущественно женщин, для массовой работы среди немужской части населения Бугурны. Ну, и наконец, подкрепить все перечисленное конным милицейским отрядом в десять-пятнадцать всадников для ареста зачинщиков и наиболее активных участников волнений, дабы предотвратить расползание таковых по соседним селам…
Вот на таком социально-политическом фоне в первых чисел августа 1930 года, в Ульяновске началась подготовка к выселению раскулаченных последней – третьей категории, подлежавших перемещению уже не в отдаленные районы страны, а в пределах округа в так называемые «кулацкие поселки», которые предстояло создать.
Кулацкие поселки
Краевая партийная тройка под председательством ответственного секретаря окружкома партии Льва Романовича Милх, рассматривала этот вопрос 2 августа на своем заседании, куда были приглашены руководители ряда «заинтересованных» ведомств. Всего собралось семь человек.
Обсудив ход коллективизации, собравшие признали необходимым организовать кулацкий поселок на девятнадцать хозяйств в Ульяновском районе при селе Покровском, заселить который надлежало в течение августа, чтобы новые жители успели освоить выделенную им землю. Еще одно аналогичное поселение основали при Солдатской Ташле.
На совещании особо подчеркивалось, что принудительному перемещению в эти новые территориально-административные образования подлежали лишь те крестьянские хозяйства, которые «имели признаки кулацких». Поэтому ряд семей, намеченных к переезду в Солдатскую Ташлу, из списков были исключены, как таковых признаков не имевшие.
Необходимым условием для включения того или иного села в «программу» принудительного расселения, являлось фактическое вступление в колхоз не менее половины его крестьянских дворов. Исходя из этого, инициативу Ульяновских райисполкома и райкома партии, предлагавших в виде исключения и только для их района эту пятидесятипроцентную планку снизить, Окртройка отклонила. А чтобы у районных начальников впредь оставалось поменьше времени на выдвижение инициатив, идущих в разрез с решениями партии, его обязали заняться делом и срочно провести проверку всей работы по организации кулацких поселков и ускорить выселение в таковые из сел, уже достигших пятидесятипроцентной коллективизации.
Однако, небольшое исключение все же было сделано: ульяновским товарищам разрешили выселить кулаков из Арбузовки и Конной слободы, где указанную планку пока не преодолели.
Что касается прочих районов, то, помня о многочисленных «искривлениях» и «перегибах», допущенных в январе и феврале, в каждом из них было приказано создать специальные комиссии в составе представителей райкомов, райисполкомов, а также прокуроров или следователей для проверки и перепроверки списков выселяемых.
Не осталось в стороне от процесса и Ульяновская городская парторганизация: 7 августа бюро горкома постановило организовать еще два кулацких поселка: один – на территории Русско-Беденьговского сельсовета, и второй – Пилюгинского. Их комендантами назначали соответственно сотрудника ГПУ тов. Прасолова и демобилизованного из комсостава милиции тов. Брындина.
В распоряжение направляемых под их надзор переселенцев передавались два земельных надела площадью не менее 75 гектаров каждый, земля для которых изымалась у местных единоличников. Для скорейшей реализации этого «черного передела» фракции Горсовета поручалось немедленно выслать на места землеустроителей. Срочность объяснялась тем, что переезд и передел должны были быть закончены 1 сентября, чтобы «новоселы» успели засеять озимые под урожай будущего, 1931 года.
Еще через неделю, 15 августа, бюро Ульяновского Горрайкома ВКП(б) обсудило решение окружной тройки от второго числа и, как и следовало ожидать, с ним полностью согласилось, поскольку проект «о выселении кулаков на поселки Солдатско-Ташлинский и Покровский», отвечал неким «требованиям соответствующих организаций».
На этом же заседании, для оперативного руководства операцией и проверки списков лиц, подлежащих выселению, была сформирована тройка в составе заместителя ответственного секретаря райкома товарища Кленова, прокурора Баскиной и заведующего райзагототделом Володина.
Процесс изоляции «кулацкого элемента» от основной крестьянской массы подходил к концу. А вот до завершения процесса самой коллективизации было еще очень и очень далеко. К 1 января 1932 года ликвидация кулачества, как класса и, главное, сплошная коллективизация пригородных сел составит лишь 87%.
Тем более, ее противники не собирались сидеть сложа руки.
Источники:
ГАНИ УО Ф. 13, оп. 1, Д. 950 Л. 8,9.
ГАНИ УО Ф. 13, оп. 1, Д. 948 Л. 2.
ГАНИ УО Ф. 13, оп. 1, Д. 1131 Л. 56.
ГАНИ УО Ф. 13, оп. 1, Д. 947 Л. 5.
ГАУО УО Ф. Р-634. Опись 1. Д. 565 Л. 1.
Владимир Миронов
Колхоз – дело добровольное… Часть 1. Вывихи, перегибы и искривления
Колхоз – дело добровольное… Часть 2. Пора в путь-дорогу
Колхоз – дело добровольное… Часть 3. «Мы в колхоз не пойдем, без него проживем»
От Большой Саратовской до Гончарова. Из истории центральной улицы Симбирска-Ульяновска
Места, 1.1.1941







