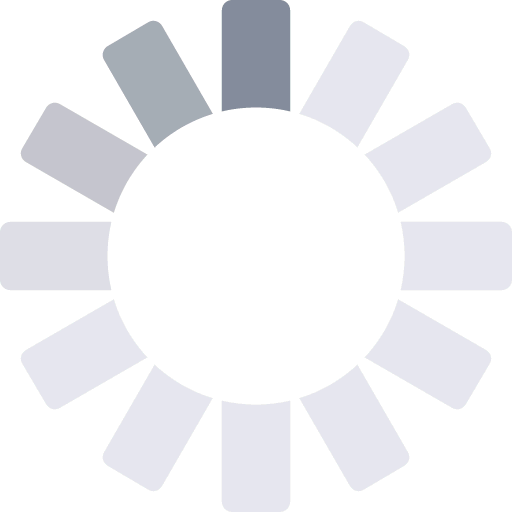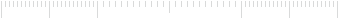Утром 22 июля 1918 года под грохот орудий в Симбирск вошли чехословацкие части и отряды Народной Армии Самарского КОМУЧа.
Под их натиском советские войска спешно покидали город, отступая на север, кто – по Волге на пароходах, кто – пешком по Казанскому тракту (ныне – проспект Нариманова). Однако уйти успели не все. И вскоре на городских улицах появились группы местной молодежи, состоявшие в основном из «реалистов» – учащихся реальных училищ (средних или неполных средних учебных заведений, дававших «общее образование, приспособленное к практическим потребностям и приобретению технических позиций»), и гимназистов-старшеклассников. Они сновали по дворам, заглядывали в сараи и даже в дома обывателей, выискивая спрятавшихся «комиссаров» и красноармейцев. Кого-то, найдя, вели в комендатуру, располагавшуюся на Никольской улице (ныне ул. Гимова) в здании городской управы (ныне – музыкально-педагогическое училище). А с кем-то расправлялись на месте.
Об одной из таких расправ уже после возвращения в город советской власти, сообщила следствию некая Агафья Либченкова 26 лет. Она рассказала, как в тот злополучный день, оказавшись на Старом Венце, ближе к Завьяловской площади (ныне – бульвар Пластова), вдруг увидела человек семь или восемь гимназистов и реалистов. Они толпились над телами двух убитых красноармейцев, когда вдруг откуда-то появился еще один солдат с винтовкой. Заметив его, кто-то из молодых людей крикнул:
– Кто ты такой?
– Красноармеец, – ответил тот.
– Откуда идешь?
– С караула.
Короткий диалог закончился тем, что у бойца отобрали винтовку, из которой тут же его и застрелили.
Обсудив происшедшее «нехорошими словами», убийцы направились под гору, к Волге. А над телом погибшего склонился один из прохожих – пожилой седовласый мужчина, как потом оказалось, военный врач. Из кармана гимнастерки убитого он вынул какие-то бумаги, которые прочитал вслух толпившейся вокруг публике. Из них выходило, что этот красноармеец был насильно мобилизован и приехал в Симбирск на заготовку хлеба для голодающей губернии.
Однако самым ценным в показаниях Либченковой был не столько сам рассказ о расправе, сколько то, что она назвала имена двух ее участников – братьев Николая и Константин Фоминых. Причем, именно последний, утверждала свидетельница, и стрелял в жертву. Обоих она хорошо знала, поскольку часто бывала и даже какое-то время работала в доме их матери, где та содержала небольшой бордель.
Кроме того, со слов своей знакомой Веры Сапожниковой, проживавшей на Чебоксарской улице (ныне ул. Бебеля), в доме Волковой, Либченкова знала, что туда, в числе других, приходил искать красноармейцев да комиссаров и Константин Фомин. Они обыскали двор, подвал, погреба и даже комнаты. Слова Сапожниковой подтвердила и ее сестра Лидия, которая в момент обыска, якобы, гостила у родственницы и тоже видела среди обыскивавших Фомина, и с ним несколько человек.
«Из этого ясно видно, что Константин Фомин принимал активное и горячее участие в отыскивании красноармейцев, что, безусловно, ставит еще лишний и громадный минус его оправданиям вышеупомянутого поступка», – записала 26 февраля 1919 года в обвинительном заключении по этому делу следователь Симбирского Губревтрибунала Рожкова.
К сожалению, никаких других сведений об этой женщине нет. Однако, судя по тому, что составленные ею протоколы допросов и другие документы написаны без ошибок, красивым, разборчивым почерком (и то, и другое в то время – удивительная редкость), а обстоятельства в них изложены грамотным, скорее литературным, нежели юридическим языком, Рожкова имела хорошее гимназическое, а может быть, и университетское образование.
Константин Фомин 17 лет, обвинялся ею в службе у белых и расстреле красноармейца. Происходил обвиняемый из мещан г. Симбирска, где родился и жил с матерью в собственном доме № 75 на Лосевой улица (ныне – ул. Федерации). Окончил шесть классов Симбирского реального училища. Ни в каких партиях, а также под судом и следствием прежде не состоял.
«Биография Фомина самая простая, – пишет далее Рожкова. – Но жаль того, что Фомин скрывает ту среду, которая, хотя по временам (так как Константин Фомин жил больше у своей тетки) окружала его, развращая еще в детстве светлые его порывы. Видя пьяные лица развращенных приезжавших в дом его матери мужчин и их некрасивые, некорректные поступки с публичными женщинами, которых мать Фомина или держала у себя на квартире, или же умела привозить. Без сомнения, вся эта грязь разврата не прошла бесследно для впечатлительного ребенка. И вот Константин Фомин, как бесконтрольная работа, не задумываясь и совершил это великое преступление – расстрелял невинного красноармейца и так нагло и смело глядя в глаза допрашиваемых, отрицая свершившийся факт.
Эта наглость и эта ложь ясно доказывают, что обвиняемый привык уже к этому. Привычка, говорят, вторая натура человека».
Согласитесь, это похоже, скорее, на отрывок из романа, чем на цитату из юридического документа. И далее в том же духе: «Обвиняемый устно заявлял мне при допросе, что он все равно убежден в том, что скоро будет на свободе, т.к. не чувствует за собой никакого преступления, опираясь в оправдании на тот факт, что во время прихода белых, его – Константина Фомина – в Симбирске даже не было, ибо он дня три был на охоте с одним стариком – Василием Алексеевым Столяровым в с. Карлинском.
Но эта гнусная ложь разбилась опять таки вескими показаниями этого же старика Василия Столярова, гр. г. Симбирска, который говорит: «Во время прихода Чехов в Симбирск я хорошо помню, что был у себя дома, т.к. ясно запомнил тот случай, когда мимо дома хозяйки, у которой я квартирую, пробежал запыхавшийся красноармеец, у которого я спросил, что слышно. На что последний ответил, что вошли белые. Пробыв дома дня 2-3, мы с Константином Фоминым отправились на охоту, где пробыли двое суток».
Теперь ясно, что обвиняемый, совершив свой гнусный поступок в первые дни прихода белых, постарался заглушить свою, может быть, еще не уснувшую совесть, охотой, что и было им сделано».
Дополнительной гирей на весы обвинения, по мнению Рожковой, легла фраза, которой подследственный ясно выразил свое сочувствие к белым: «На пятый день прихода белых в Симбирск, я вечером со своим товарищем Николаем Тихомировым и Павлом Прохоровым спустился во Владимирский сад на танцевальный вечер, где танцевал чешскую польку». А вечер этот, внимание (!) был устроен в честь прихода белых!
Свое участие в инкриминируемых преступлениях Фомин отрицал и на очных ставках с Агафьей Любченковой и Лидией Сапожниковой, называя их показания наглой ложью. «Но ведь это – одни лишь слова», – делает вывод следователь. В то время, как виновность арестованного, по ее мнению, подтверждали «его волнение и испуг, отразившийся в глазах при рассказе свидетельницы – очевидице гнусного совершенного убийства Константином Фоминым, все это ясно обрисовывает самочувствие обвиняемого, а потому и ясен приговор его наказания: «Взявшийся за меч, от меча и погибнет». Мое мнение таково, что не щадить жизнь обвиняемого даже не принимая во внимание его несовершеннолетие», – завершает свое повествование Рожкова.
На следующий день – 27 февраля 1919 года Следственная Коллегия Симбирского Губчрезвычкома, рассмотрев дело за №459 и, согласившись с мнением следователя, вынесла приговор: Константина Фомина – РАССТРЕЛЯТЬ.
Однако 9 марта Симбирская Губернская Чрезвычайная Комиссия решение своего юридического отдела отменила, постановив передать дело на рассмотрение Губернского Ревтрибунала. Еще через месяц решением другой Губернской Комиссии – по разгрузке тюрем – К. Фомин был освобожден из-под стражи под подписку о неотлучке.
А что же другой опознанный Либченковой участник расправы – старший брат Константина двадцатитрехлетний Николай?
Когда началось следствие, его не было в Симбирске, поскольку он служил в Красной Армии шофером Управления Начальника артиллерии 27-й стрелковой Симбирской Железной Дивизии. Об аресте родственника красноармеец Н. Фомин узнал в начале февраля 1919 года, когда из дома пришло письмо, где сообщалось, что Костя арестован по чьему-то доносу, в котором говорилось также о том, будто бы сам Николай воюет на стороне белых.
Получив это известие, Фомин выхлопотал у начальства отпуск и отправился в Симбирск выручать брата. Но, прибыв на родину 11 апреля, был арестован, потом отпущен и вновь взят под стражу ревтрибуналом.
И в письменных заявлениях, и на допросах, Николай, как и младший брат, категорически отрицал свою вину в чем-либо. Он утверждал, что работал в Симбирске слесарем на механической фабрике вплоть до прихода белых. А, когда те взяли город, был мобилизован в Народную Армию. Однако не воевал, а трудился в слесарной мастерской. Потом заболел, попал в лазарет, где его и застало возвращение советской власти. Выздоровев, он добровольцем вступил в Красную Армию и следующие девять месяцев воевал в составе Железной дивизии, освобождая Новодевичье, Ставрополь, Сызрань, Самару, Орск и Бузулук.
Что касается доносов, написанных на него Либченковой и Сапожниковой, то у них к нему были личные счеты и обиды на почве не сложившихся любовных отношений. Поэтому, видимо, они и воспользовались случаем, чтобы отомстить.
К показаниям заслуженного красноармейца следствие отнеслось более внимательно, чем к позиции бывшего реалиста. В ходе дополнительной проверки выяснилось, что накануне прихода чехословаков Фомин-младший действительно ушел на рыбалку, с которой и вправду вернулся лишь спустя трое суток.
По поводу же расстрела красноармейца на Завьяловской площади, свидетели Иван Петрович Игнатьев и его жена Елена Спиридоновна показали, что в первый день занятия белыми Симбирска, они, возвращаясь из гостей по Венцу, видели, как самарские добровольцы задержали троих красноармейцев. Двоих застрелили на месте, а третий бросился бежать в сторону Нового Венца, но был убит сзади выстрелами из двух винтовок. Причем оба супруга, знавшие в лицо братьев Фоминых, утверждали, что таковых среди убийц не было.
Хорошо была известна в городе и Агафья Липченкова, много лет занимавшаяся проституцией. А примерно год назад за разврат и бесчинство распоряжением милиции ее даже выселили не только из дома, но даже и из района. Исходя из этого, по мнению следствия, показания данной свидетельницы более не заслуживали доверия.
19 июня 1919 года Симбирская Судебно-Следственная Комиссия при Губревтрибунале полностью оправдала подсудимых и освободила обоих из-под стражи.
А вот Агафью Либченкову «за гнусную ложь и клевету в Судебном учреждении», наоборот, привлекли к суду Революционного Трибунала, а затем передали дело в Народный Суд по важнейшим делам.
Трудно сказать, почему не разобралась в ситуации следователь Рожкова, едва не подведя под расстрел совсем молодого парня. Возможно, ей просто не хватило опыта. А, может быть, вольно или невольно, сыграла свою роль женская солидарность, подсознательное (или даже сознательное) стремление отомстить за поруганные девичьи мечты и надежды. А, главное, наказать обидчика – этакого молодого самоуверенного кобеля, которого, как известно, уже не отмоешь до бела. Увы, этого мы никогда не узнаем.
Дальнейшая судьба участников этой революционно-любовной истории также не известна.
ГАУО Ф. Р-125, оп. 2, д. 180. Л. 56-59, 64,65, 68, 72, 73, 76-79, 89.
Владимир Миронов